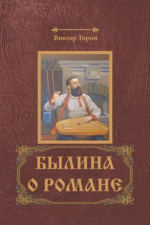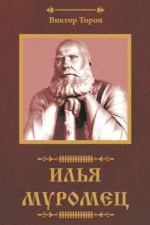Но если это стремление к нарядности, к декоративности, к щегольству проявлялось по отношению не к людям, а к Богу, тогда тем более русский мог вынести всё лучшее, что имел, и отдать. И он желал, конечно, в одеяниях своего храма увидеть сложное, затейливое узорочье. Пусть оно никак не связано с устройством храма. Пусть оно наносится резцом, словно кистью, то есть будто выводится художником по стенам, барабанам и шатрам — это неважно! Иное важнее: драгоценной «вышивки по камню» должно быть много. И чем больше — тем лучше человек угодил Богу, а также обществу, которое храмоздателя окружает.
Таков истинный, глубинный вкус старой Москвы в архитектурных затеях.
Этатический монолит XVI столетия, эксперименты итальянцев и немцев, оказавшихся вдруг на службе у наших государей, громады, мощь, тяжесть, выверенная гармония форм, скудно декорированное совершенство сменились пестротой, буйством разнообразия, поэтикой асимметрии, пышностью каменного узорочья, хвастовством и суетой, но в то же время — верой радостной и стойкой, легко, воздушно преображающейся в храмы-терема. Вышло из сердца Москвы нарядное варварство; красоты рационального в нём мало; зато живой силы много, неистовых чувств, обуздываемых одной только верой и под влиянием одной только веры принимающих согласованные формы. XVI век — сильнее, разумнее, холоднее. XVII век — сила уже надломлена Смутою, хоть ещё велика, но теплоты больше, души больше, радости и сердечности больше. Руси, в конечном итоге, больше…
До начала XVIII века московские постройки могут соотноситься с понятием «барокко» лишь очень условно. Уж очень они непохожи на европейское барокко. Уж очень разными маршрутами шло развитие архитектуры в Европе и России.
Но по духу они вполне этому понятию соответствуют.
Барокко — стиль эмоциональный, чувственный и вычурный. Он заставляет камень терять вес и «дышать», то отступая от линии фасада вглубь, то придвигаясь к зрителю. Это стиль, возникший в какой-то степени из усталости от торжества ratio, а ещё того более — из скуки, рождённой рассудочною умеренностью. По всей Европе идут религиозные войны, кровь льётся реками, сладострастие становится позволительным и даже обретает романтический ореол, чувства приведены во взбудораженное состояние… Как тут не поддаться обаянию сумасшествия, вытекающего из подвалов человеческой личности? Барокко и есть в какой-то степени разрешённое безумие…
Отсюда — буйство декора, отсюда — бешеное экспериментирование с формами, их нарочитое, дерзкое усложнение. Ёмко и точно выразилась Наталья Сосновская. По её словам, стиль барокко «…отличает изогнутость линий, нагромождение деталей, сложные формы, декоративная пышность и живописность».
Но разве не то же самое характерно и для храмовых построек с каменной резьбой, относящихся к периоду 1620-х — 1680-х, которые автор этих строк позволил себе объединить под названием «посадское барокко»?
И разве Московское государство являло по сравнению с Европой образец спокойствия? О, нет. Весь XVII век оно, не переставая, клокотало, выпуская кровавый пар. Не зря само столетие это в нашей истории получило имя «бунташного». Москва познала Смуту, Соляной бунт, Медный, а также несколько стрелецких… Понятие об общественной норме, о правильном порядке размылось. И вкусами москвичей руководило тогда не только обострённое чувство веры, но и обнажённое, расхристанное жизнелюбие. Христианская вера ходила тогда рука об руку с вовсе не христианской страстностью.
Вот и пришлось нам впору своё, домотканое барокко.
В 1680-х посадское барокко, характерное для времени первых Романовых, стало постепенно отходить на второй план, уступая место другому архитектурному поветрию, в меньшей мере собственно московскому, в большей — европейскому. Его именуют по-разному: то «московским барокко», то «нарышкинским барокко», то «нарышкинским стилем». Одно время его рождение связывали с семейством Нарышкиных, откуда вышла царица Наталья Кирилловна — вторая жена Алексея Михайловича, мать Петра I. Нарышкины, действительно, являлись заказчиками многих построек, выполненных в новой манере. Но подобные здания возводились задолго до того, как этим стилем заинтересовалась венценосная фамилия. У его истоков историкам архитектуры виделась то царевна Софья, то род князей Голицыных.
В действительности же его появление связано с деятельностью царя Фёдора Алексеевича (1676–1682 годы). И прежде погружения в нарышкинское барокко следует рассказать о великой архитектурной эпопее его царствования.
Фёдор Алексеевич строил фантастически много. По интенсивности строительства в Москве и её окрестностях недолгие годы его правления превосходят царствование любого другого русского монарха XVII столетия.
Русскую столицу приводили в порядок со всей основательностью: переулки вымостили деревом, запаслись булыжником и приготовились менять деревянные мостовые на каменные. В Кремле провели новую канализационную систему. Жестоко боролись с уголовщиной. Как замечал Татищев, «полицыя была… довольно поправлена и в лучшее состояние приведена». Руководило её действиями особое учреждение — Земский приказ.
О Москве царь деятельно заботился. Он не только сберегал её от грязи и преступников, не только стремился подтолкнуть к «каменному строению» подданных, но и сам очень много строил. Если бы требовалось подобрать этому монарху пристойное прозвище, Строитель — подошло бы наилучшим образом.
В Котельниках по царскому указу возвели нарядную пятиглавую церковь Казанской иконы Божией матери. Сретенский монастырь обрёл новый собор. В Симонове монастыре появились Тихвинская церковь и трапезная палата. Тогда же родился маленький шедевр каменного узорочья — храм Симеона Столпника на Поварской. Он полностью выстроен на казённые средства. При Фёдоре Алексеевиче появилась одна из красивейших церквей Москвы — Николы в Хамовниках, а также церковь Пимена Великого, что в Старых Воротниках, и другие знаменитые храмовые здания. По столице прокатилась мощная волна храмового строительства.
Особенное внимание государь уделил Кремлю. На протяжении второй половины его царствования здесь не стихали строительные работы. Постоянно сновали плотники, каменщики, резчики, живописцы, расписывавшие новые постройки.
Государь часто привлекал к своим архитектурным затеям иностранных зодчих. Он, оставаясь человеком старомосковской закваски, являлся поклонником европейской культуры, свободно говорил по-польски, знал латынь, вводил партесное пение в церкви, владел искусством стихосложения, малоизвестным тогда на Руси.
Вот и «нарышкинское барокко» начиналось с архитектурных затей царя Фёдора Алексеевича. Самый древний памятник «нарышкинского» стиля, известный автору этих строк — храм Иконы Божией Матери Неопалимая Купина на Новой Конюшенной слободе. Его построили то ли в 1679, то ли в 1680 году. Сейчас Неопалимовской церкви уже нет, остались только фото. Зодчий, нанятый царскими конюхами, взгромоздил на «четверик» (параллелепипед) основного объёма тяжёлый «восьмерик» (восьмигранную призму).
Идея — очень необычная, можно сказать, неестественная для московской архитектуры середины XVII века. Скорее всего, её заимствовали из Европы, может быть, из той же Польши, Литвы или Малороссии — культурные новшества, исходившие от Речи Посполитой, тогда как раз входили в моду. Польское, украинское влияние очень хорошо чувствуется в русском искусстве конца XVII века.
На этом стоит остановиться и вдуматься. История России знает только один период, когда Польша и Малороссия оказались в роли своего рода «законодателей мод». Притом как в прямом смысле — мод на одежду, так и в переносном — особого рода чтения, определённых архитектурных приёмов, интерьеров. Этот период невелик: 1670-е — 1680-е годы. В ту пору русские дворяне вместе с украинскими казаками дрались за Чигирин против турок, отношения с Польшей пришли в сравнительно мирное состояние, а царицей сделалась смоленская шляхтянка Агафья Грушецкая. Миры украинской гетманщины и польской аристократии оказались как никогда близки к старомосковскому обществу. Одно время польские католики даже надеялись на строительство костёла в Москве, чего, правда, не произошло вплоть до времён Петра I. Культурное влияние Польши и Малороссии тогда не встречало настороженного отторжения. Архитектурная новинка «восьмерик на четверике», абсолютно неизвестная старомосковскому зодчеству, пришлась по вкусу москвичам.
Посадское барокко, изощрившись за полстолетия до предела, уже исчерпало возможности развития. В рамках того, что вошло в обычай, его просто некуда было развивать. Всё, что народ хотел сказать через него, уже прозвучало. И теперь требовалось обновление.
Москвичи искали доселе не опробованные формы для декоративных затей. И они спокойно пошли по привычному пути заимствования европейских деталей с целью их последующего переваривания и включения в русскую сумму.
Восьмерик? Отлично! Появляются новые плоскости, которые можно покрыть «узорочьем». Входят в моду «разорванные фронтончики»? Витиевато. А значит — годится, добавим. Из Европы к нам везут маскароны, волюты, картуши? Хитро выдумано! Добавим и это к нашему плетению камня.
Прежний хаос композиции уже не в почёте. Не пора ли ему уступить место строгому центрированию? Не пора ли вводить чётко обозначенный вертикальный стержень композиции? Больно умственно! Ну… можно и это. Попробуем.
Иноземцы тащат в Москву свою ордерную архитектуру? Лепота! Изобразим чисто декоративную ордерность. Пусть колонны, фронтоны, карнизы, создающие эффект ложного деления на этажи, будут красиво обозначены на стенах. Частью конструкции они всё равно не станут, оставшись средством украшения…
Так называемое «нарышкинское барокко» представляет собой компромисс между традиционной московской архитектурой, посадским барокко середины века и архитектурой чисто европейской. Европа поставляла новые идеи, новые элементы декора, Москва пока ещё могла встроить всё это в родное, сердечно любимое традиционное зодчество, не меняя его кардинально. Фактически посадское барокко, заняв у соседей кое-какие «новины», плавно, путём эволюционного развития, перешло в барокко нарышкинское.
В итоге получился очень яркий, очень нарядный межеумочный стиль, продержавшийся двадцать лет. Историк В. П. Даркевич назвал его «эфемерным, но полным грации», сравнил с причудливым, вскоре увядшим цветком.
Что ж, для архитектурного стиля два десятилетия — срок и впрямь небольшой. Нарышкинское барокко скоро исчезло под натиском катастрофической европеизации петровских времён. Но было ли оно эфемерным? Вот уж нет.
Во-первых, оно опиралось на могучую традицию посадского барокко. Относительно многих московских церквей невозможно со всей определённостью сказать, относятся ли они к нарышкинскому барокко или принадлежат более ранней архитектурной традиции. Известны разного рода «переходные варианты», показывающие, сколь близки были эти две линии в русском зодчестве.
Вот широко известный храм Воскресения в Кадашах (конец 1687–1695). Где ж восьмерик? Барабаны под главами — гранёные, но это именно барабаны, а не дополнительная часть основного объёма. Зато разорванные фронтоны, столь любезные «нарышкинскому барокко», практически ставшие его «визитной карточкой», заменили собой кокошники. Они возвышаются горкой над карнизом, и если в нижнем ярусе — фронтоны просто безумные, чудовищных размеров, то к верхнему они превращаются в изящные прихотливые штучки. Этим вновь достигается эффект вспененного камня, как на шатре Преображенской церкви в селе Остров, только на сей раз другими средствами — без шатра и без кокошников.
А вот храм Введения в Барашах, достроенный аж в 1701 году (!). Опять никакого восьмерика на четверике. Никакой «ордерной архитектуры». Никакого центрирования композиции. Но много есть и «нарышкинских» черт.
Во-вторых, если взять лишь самые известные постройки, входящие в «обойму» нового стиля, лишь те, где этот стиль выразил себя с наибольшей силой, получится список не из двух-трёх и не из пяти-шести памятников, а как минимум из полутора десятков.
Таковы знаменитые церковные здания Новодевичьего, Богоявленского и Высокопетровского монастырей; Знаменский храм на Шереметьевом дворе; церкви Троицы в Лыкове и Покрова в Филях. До наших дней ещё не дошли ранняя «нарышкинская» церковь царевича Иоасафа в Измайлове и храм Параскевы Пятницы в Охотном ряду. Сюда же стоит добавить Успенский храм на Покровке, возведённый богатейшим купцом И. М. Сверчковым во второй половине 1690-х. Пышностью декора и устремлённостью ввысь церковь вызывает ассоциации со зрелой готикой. Она принадлежит отчасти к нарышкинскому барокко, отчасти к украинскому, отчасти же — никуда не вписывается, выламывается изо всех рамок… Большевики бодро «зачистили» экзотичную красавицу в 1930-х. Теперь её убранство можно оценить лишь по фотографиям.
Шлейф нарышкинского барокко тянулся очень долго. Уже и сменило его «петровское барокко», совсем с нашей средневековой архитектурой не связанное, полностью европеизированное, уже и судьба самого царя Петра Алексеевича идёт к закату, а в Москве всё ещё появляются храмы, несущие явственный отпечаток этого стиля. Например, церковь Ризоположения в Леонове. А ведь её возвели уже в 1722 году!
Какая уж тут эфемерность! «Нарышкинская» архитектура прочно укоренена в предыдущем стиле, успела развиться в полной мере, дать множество превосходных памятников, да и угасла отнюдь не одномоментно.
Для строительства храмов-громад новый стиль годился ещё меньше, чем предыдущий. Но конец XVII века вообще — время экспериментов, переходных форм, смешения стилей и смещения норм. Поэтому как минимум дважды качества, присущие нарышкинскому барокко, пытались применить к постройкам титанических габаритов.
Таков собор Донского монастыря (середина 1680-х — середина 1690-х). Монументальное традиционное пятиглавие венчает его. Но боковые главы поставлены не по углам четверика, а по сторонам света — на колоссальных «лепестках», выступающих из основного объёма и скруглённых по углам. В плане собор крестовиден. Композиционно это нарышкинское барокко. Скупо рассыпанный декор — вполне родной для него. Однако приёмы, ставшие принадлежностью этого стиля, превратили собор в странное, мрачноватое создание. Никакой нарядности, вычурности, изящества, только плохо организованная тяжесть.
Второй пример — Никольский собор Николо-Перервинского монастыря (1696–1700). Он был любимым детищем патриарха Адриана, который явно тяготел к величественной старине, хотя и нарядную «нарышкинскую» версию принимал как дань новомодным веяниям. Между тем эта, последняя, уже пребывала на излёте… Патриарху требовался весьма значительный по размерам храм, способный прославить обитель, которая до сих пор не отличалась особенной известностью; он решил возвести монументальное здание, но в современном архитектурном духе и с современными же причудами декора. В итоге получилось несоответствие изящного, декоративного стиля внушительным габаритам церковного здания. Восьмерик, вознесённый над четвериком, несоразмерно, угнетающе тяжёл, как и единственная мощная глава.
Что тут скажешь? Как посадское барокко, так и его дитя — нарышкинское — возникли из нужд и запросов торгово-ремесленного населения, служилых людей, московской аристократии. Они лучше всего подходили для малых, приходских, «уличанских», «домовых» церквей. Они годились также и для усадебного зодчества. Но для монументальных проектов государей и патриархов оказались категорически непригодными.
Начался XVIII век.
Москва перестала быть столицей и наполнилась Европой. Гремящие потоки ворвались на московские улицы, многое смыли, нанесли всякого, как нестерпимого, так и полезного. Архитектурные моды меняются кардинально. В их мелодиях очень долго не будут слышаться национальные ноты.
Однако допетровское барокко продолжало нравиться москвичам, они его любили и берегли как нечто родное, близкое, своё. И не только «нарышкинский» вариант, но и более древний. Особенно — невысокие шатровые колоколенки. Они, кажется, надолго стали одной из главных примет московского городского ландшафта, да чуть ли не общерусского. Вот «Московский дворик» Поленова: на заднем плане стоит именно такая колокольня. А вот «Грачи прилетели» Саврасова — такая же…
Даже когда нарышкинское барокко и старый добрый стиль времён Алексея Михайловича стали сущей архаикой, москвичи нет-нет, да возвращались к любимым формам, к привычному декору. Церковь Введения в Барашах появилась на рубеже XVII и XVIII веков, но она в полной мере принадлежит предыдущей эпохе. Знаменский храм в Зубове, погибший при большевиках — ровесник Полтавской баталии. Однако если бы его возвели при батюшке царя, победившего шведов, то есть на полстолетия раньше, никто не высказал бы удивления. Как говорится, «полностью вписывается». Храм Николы на Болвановке достроили тремя годами позднее, но он представляет собой всё то же посадское барокко.
В смысле чисто технологическом простая и надёжная конструкция храмов, возведённых в стиле «посадского барокко», гарантировала как недюжинную прочность здания, так и его феноменальную долговечность. По самым скромным подсчётам, к концу XIX века в Москве и её ближайших окрестностях сохранялось полторы сотни храмов, носивших резную «вышивку» допетровского барокко!
Их, конечно, ремонтировали, перестраивали, иначе, по-новому, растёсывали и оформляли оконные проёмы, барабаны и главки, но старомосковская основа, которую трудно с чем-либо перепутать, сохранялась хотя бы частично, по-прежнему радовала глаз.
Москвичи задолго до Империи твёрдо поняли, что им нравится, сотворили для Бога и для себя именно такие храмы, а потом окружили их домами. И стали дома выглядеть, как дети, радостно обступившие главу фамилии, минуту назад пришедшего со службы...
В собственных малых храмах, рассыпанных повсюду и везде, москвичи выразили и себя, и свой город. Древняя душа Москвы, разлитая меж ними, лучше всего проявила свою суть в архитектуре, когда державный XVI век сменился торговым XVII — при Борисе Годунове и первых Романовых. Иными словами, когда своё слово в зодчестве сказали люди, никак не связанные с царским семейством Калитичей, люди, стоящие ближе к народной гуще, дышащие её бытом и её упованиями.
Отыскалось в этой душе много веры, много страсти и необоримое стремление к нарядности. Москва по духу своему христианка, по предназначению — державная владычица, а по внутренней склонности… щеголиха.
Использованы фотоматериалы Wikimedia Commons
Литература и источники
1. Володихин Д. М. Московский миф. М., 2014.
2. Татищев В. Н. История Российская // Татищев В. Н. Собрание сочинений в восьми томах. Т. VII. М., 1996. Русская история