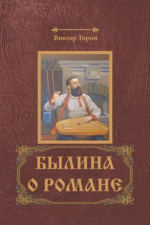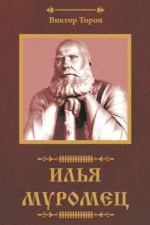Другой заметной особенностью государственной системы Речи Посполитой была выборность королей. Пресечение «природной» династии Рюриковичей в 1598 году впервые поставило Московское царство перед возможностью и необходимостью избрания монарха. В деятельности избирательных Земских соборов 1598 и 1613 годов можно найти некоторые аналогии с польскими элекционными сеймами: декларируемый принцип единогласия и значительная роль предстоятеля церкви в моменты «междуцарствий». Однако и эти аналогии с польско-литовскими нормами не могут быть признаны безусловным результатом польского влияния. Во-первых, представительство на Земских соборах носило более демократичный характер. Во-вторых, принцип выборности торжествовал лишь в тех случаях, когда принцип наследственности не мог быть выдержан по причине отсутствия наследников. В любом случае, выборность государей в России, породив в известной степени Смуту начала XVII века, не смогла пережить своего детища.
Ещё одним важным принципом государственного устройства Речи Посполитой была ограниченность власти монарха. Воздействие польского примера на умы московских политиков в этом вопросе было намного заметнее. Первая попытка ограничить царскую власть имела место при воцарении Василия Шуйского, незадолго до того пытавшегося вести за спиной Лжедмитрия I переговоры с польскими властями о возведении на московский трон принца Владислава. Вступая на престол, Василий Шуйский «начал говорить в соборной церкви, чего испокон веков в Московском государстве не бывало: целую де крест всей земле на том, что мне никакого зла ни против кого не сделать без собора». Повторно идея об ограничении царской власти была озвучена на русско-польских переговорах в феврале 1610 года под Смоленском. Бывшие сторонники Тушинского Вора настаивали на ограничении полномочий государя Боярской думой и Земским собором. В том же духе был выдержан подписанный боярами и гетманом Жолкевским под Москвой договор 17 августа 1610 года. Но и в этом случае мы не можем говорить о том, что московские бояре копировали политические принципы Речи Посполитой. Вполне обоснованным представляется мнение С. Ф. Платонова, который считал, что сама идея ограничения царской власти была продиктована не либеральными соображениями, а лишь стремлением обезопасить страну от иноземного влияния в условиях избрания на престол иностранного претендента.
В конечном итоге, и мысль об ограничении царской власти не прижилась в России, избравшей путь абсолютизма. В этом оказывается более скорым». Думается, именно этим расхождением в системе ценностей, а вовсе не враждебным отношением к «ненавистным врагам» и династическим амбициям Сигизмунда III, по предположению американского исследователя Роберта Крамми, следует объяснять нежелание русских людей принять польский образец функционирования монархической власти. Некоторое ослабление царской власти при Михаиле Романове объясняется не принципиальными изменениями в российской государственной системе, а личностными особенностями этого монарха. Не стоит усматривать в деятельности почти непрерывно заседавших в 1613‒1622 годах Земских соборов аналогий польско-литовской сеймовой практики: в отличие от сеймов Речи Посполитой, московские соборы не ослабляли, а, напротив, укрепляли царскую власть.
Таким образом, основополагающие принципы функционирования московской государственности, выдержав испытание Смутой, остались неизменными. Необходимо проанализировать также, не сказалось ли польское влияние на состоянии властных органов Российской державы. Верховным органом власти Московского государства являлась Боярская дума. Состав думы в начале XVII века довольно активно менялся, но принципы работы
Но подразумевало ли переименование верховного властного органа также реформу его структуры и функций? А. В. Лаврентьев предположил, что реформа если и не была осуществлена, то, по меньшей мере, была подготовлена. Опираясь на опубликованную в «Собрании государственных грамот и договоров» «Поименную роспись духовных и светских особ, составляющих государственный совет в правление Лжедмитрия I», исследователь пришел к выводу о том, что в состав Сената входили представители окольничих и думных дворян. Помимо этого, по мнению заседания Боярской думы иногда происходили при участии высшего духовенства. Такие совместные заседания бояр и духовенства в XVI веке именовались соборными. Присутствие на посольском приёме духовенства не вполне обычно, однако известно, что высшее духовенство вместе с членами думы обладало правом апелляции к царю в дипломатических контактах с Речью Посполитой.
Итак, говорить о какой-либо реструктуризации Боярской думы Лжедмитрием I мы не можем: изменения выразились лишь в увеличении численного состава и переименовании в Сенат.
Переименование думы в Сенат не было единственным терминологическим заимствованием Лжедмитрия. Известно, что самозванец, не довольствуясь традиционным царским титулом, стал именовать себя цесарем. Этот вопрос неоднократно рассматривался в историографии. Само употребление титула «цесарь» не вносило чего-либо нового в политическую практику Московского государства. По сути своей термины «царь», «цесарь» и «император» были синонимичны, более пристального внимания заслуживает эпитет, которым Лжедмитрий сопровождал цесарский титул: «непобедимый» или «непобедимейший». Именно этот эпитет вызывал особое раздражение у поляков из окружения короля Сигизмунда. Обыкновенно употребление Лжедмитрием по отношению к себе определения «непобедимейший» трактуется как свидетельство тщеславия и заносчивости самозванца. В начале XVII века непобедимым (польское niezwyciaony, латинское invictissimus) сторонники усиления королевской власти именовали польского короля Сигизмунда III. Голландский купец Исаак Масса писал: «Димитрий увеличил титул прежних московских князей, прибавив к нему «монарх» и «непобедимый», что произошло по наущению литовских вельмож, ибо некоторые из них не любили короля и помышляли в благоприятных обстоятельствах подчинить Польшу Димитрию».
Время Лжедмитрия I было отмечено ещё одним новшеством в системе придворных чинов: по примеру польского двора царь учредил новую должность — великого мечника. Им стал знаменитый впоследствии воевода князь М. В. Скопин-Шуйский. Но это внешнее подражание европейской традиции не имело принципиального значения: роль совсем ещё юного князя ограничивалась его присутствием на торжественных церемониях с обнажённым мечом в руках.
Отличительной чертой царствования Лжедмитрия I было присутствие в его окружении значительного числа поляков, входивших в состав личной канцелярии царя. Роль этих людей обыкновенно значительно преувеличивается. В специальной литературе можно найти утверждения о том, что польские фавориты Лжедмитрия оказывали решающее влияние на внешнюю политику Московского государства, отодвинув на второй план Боярскую думу, и канцелярия Лжедмитрия «слилась с Посольским приказом если не организационно, то по сути». Специально исследовав историю Посольского приказа эпохи Смуты, мы можем определённо утверждать: внешнеполитический курс Российской державы в царствование Лжедмитрия не претерпел заметных изменений и никакого слияния личной канцелярии царя с дипломатическим ведомством не было. Подобное заблуждение может объясняться лишь весьма распространённой ошибкой: к штату Посольского приказа нередко причисляют всех, кто имел какое-либо отношение к внешнеполитическим акциям — выезжал за рубеж в составе посольств, участвовал в приёмах иностранных миссий. Активное использование Лжедмитрием поляков в качестве гонцов в Польшу приводит исследователей к указанной ошибке.
Рассмотрим также состояние приказной системы Московского государства в эпоху Смуты. С середины XX века в российской исторической литературе общепринятым стало утверждение, согласно которому потрясения начала XVII века коренным образом изменили систему приказов, численность которых уже в первые годы царствования Михаила Романова возросла в полтора раза. Однако критический анализ этих данных приводит к совершенно иным результатам: из постоянно функционирующих ведомств, сформированных в Москве при царе Михаиле до подписания Деулинского перемирия 1618 года, может быть назван только Казачий приказ. Напротив, четыре приказа — Рязанский и Дмитровский судные, Нижегородская четверть и Новый земский двор — в годы Смуты были ликвидированы, их функции отошли к другим приказам. В литературе, посвящённой истории московских приказов, обыкновенно к числу ведомств, возникших в годы Смуты, относят Устюжскую четь, Панский приказ, Денежный двор, Таможенную избу и Серебряную палату, однако все эти приказы к началу царствования Лжедмитрия I уже существовали. Таким образом, государственные институты Московской державы за первые два десятилетия XVII века не претерпели серьёзных изменений.
Известно, что Лжедмитрий I и Тушинский Вор в процессе борьбы за власть обзавелись собственными дворами и Боярскими думами. В Тушино и Калуге у Лжедмитрия II, в подмосковных таборах первого и второго народных ополчений формировались собственные приказы: разрядные, посольские, поместные, четверти. Новшества не приветствовались населением страны: попытка Тушинского Вора, по настоянию его польского окружения, ввести «двойную администрацию» обернулась катастрофой. Когда сбор податей был возложен одновременно на русских и поляков, присягнувшие самозванцу области стали вновь переходить на сторону Василия Шуйского. Одним из основных условий избрания на российский престол в 1610 году королевича Владислава предполагалось сохранение в неприкосновенности российских властных структур: «.И дьяком и приказным всяким людем во всяких приказех у всяких государственых и у земских росправных дел, и по городом воеводам, и дьяком, и всяким приказным людем, и всяким чином быти по-прежнему, как повелось при прежних великих государей в Московском государстве. И прежних обычаев и чинов, которые были в Московском государстве, не переменяти».
Крупными специалистами по истории государственного строя Московской державы подчеркивается спонтанность, хаотичность, стихийность складывания приказной системы, которая сравнивается с кривыми улочками Москвы или двором домовитого хозяина. При этом отмечается и другой важный момент: приказная система Московского государства не была порождением творческого ума отдельных личностей, её создал исторический ход развития России, в чём и заключается секрет прочности и практичности.
Иной была природа формирования польско-литовской политической системы. Речь Посполита стала результатом компромисса, итогом деятельности политиков, стремившихся «сочинить» наилучшую административную систему, которая обеспечила бы равноправие двух народов, защитила политические и имущественные права шляхты от посягательств со стороны магнатов, лишила королей возможности сделаться деспотами. Но, как любой идеальный «рукотворный» проект, эта система, столкнувшись с реальной жизнью, не выдержала длительного испытания временем, и уже к концу XVI века между тремя силами — королём, шляхтой и магнатами — наблюдалось жёсткое противостояние вместо ожидаемого компромисса и согласия.
Именно это принципиальное различие основ двух государств — польско-литовский рационализм и московская стихийность — исключало возможность объединения их в рамках единой государственной модели. Внутреннее устройство двух стран было слишком разным, чтобы они могли безболезненно и с пользой для себя копировать политические институты соседей.
Лишь в области внешней политики ввиду одинаковых задач державы могли бы заимствовать опыт друг друга. Поэтому внешнеполитические службы являются единственным корректным критерием сопоставления двух столь разных государственных организмов.
Сравним две политические системы на примере их дипломатических служб. При этом сразу приходится оговориться: в Речи Посполитой начала XVII века какого-либо единого ведомства иностранных дел не существовало. В Москве признавали субъектами внешней политики Польско-Литовского государства только короля и сенат, в русской терминологии — «панов рад». Реальное положение дел было намного сложнее. Роль короля в решении внешнеполитических вопросов со второй половины XVI века становилась все более призрачной. Главным распорядителем в иностранных делах, безусловно, выступал сенат, но помимо него дипломатическими полномочиями были наделены депутаты Посольской избы, канцлер, подскарбий, архиепископ Гнезненский, гетманы. В период правления Сигизмунда III дипломатия Речи Посполитой фактически разделилась на официальную, проводимую сенатом, и неофициальную — королевскую. Правом на осуществление самостоятельных внешних связей обладали также запорожские казаки, города Гданьск и Рига и вассалы Польши: Пруссия, Курляндия и Молдавия. При этом связи с Московским государством являлись прерогативой канцелярии Великого княжества Литовского. Однако и этот принцип не выдерживался до конца, и обыкновенным явлением в XVII веке было одновременное отправление в Москву представителей Короны и Литвы.
Результатом децентрализации в решении дипломатических вопросов был определённый анархизм внешней политики Речи Посполитой. Магнаты на свой страх и риск организовывали военные экспедиции в сопредельные страны. Король Сигизмунд III начал в 1609 году войну против Московского государства, так и не получив на это согласия сейма. В свою очередь, гетман Жолкевский посчитал себя вправе вступить в переговоры с московскими боярами и даже подписать с ними договор об избрании на российский престол королевича Владислава, не имея на то разрешения короля. Монарх не был уведомлен и об условиях заключения Деулинского перемирия в 1618 году. Достаточно вольно вели себя за рубежом и польские посланники. В частности, ими в 1608 году было подписано перемирие с Россией сроком на 3 года и 11 месяцев, тогда как инструкции определяли максимальный срок перемирия в 2 года. Отдельные магнаты самостоятельно вступали в дипломатические контакты с зарубежными дворами. Рубеж XVI‒XVII веков можно охарактеризовать как время кризиса Речи Посполитой, который проявился, помимо прочего, в малой эффективности её внешней политики.
В России XVI‒XVII веков, напротив, за внешнеполитические дела отвечало единственное учреждение — Посольский приказ. Остатки былой разобщённости к началу XVII века были практически ликвидированы, и лишь из соображений международного престижа московские государи продолжали настаивать на сохранении за новгородскими воеводами древнего права вести переговоры непосредственно со шведскими королями. Делопроизводство Посольского приказа недвусмысленно демонстрирует, насколько эта «дипломатическая автономия» являлась фикцией: каждый, даже относительно малозначительный шаг новгородской администрации по внешнеполитическим вопросам диктовался из Посольского приказа.
Отмеченные выше внешнеполитические проблемы Речи Посполитой были связаны не только с децентрализацией дипломатии, но и с хронической нехваткой денежных средств в казне. В Польше, как и в Москве, посольский обычай предписывал брать иноземную миссию на полное государственное обеспечение. Но если в России даже в самые тяжёлые моменты Смутного времени иностранных посланников продолжали держать на довольствии, то Речь Посполита периодически сталкивалась с проблемой отсутствия средств на обеспечение подобного гостеприимства. Ещё с конца XVI века в Польше стали экономить на подготовке кадров переводчиков, не без основания полагая, что польский дипломат вполне сможет объясниться со своими европейскими коллегами на интернациональной латыни. Однако с восточными языками проблемы возникли уже в начале XVII века. В то же самое время на службе в Посольском приказе Московского государства состояло более десятка специалистов по устному и письменному переводу с турецкого языка.
Таким образом, сравнение внешнеполитических служб Московского государства и Речи Посполитой показывает большую степень централизации, слаженности, оперативности и эффективности первой. Означает ли это, что московской дипломатии было абсолютно нечего перенять у своего западного соседа? Разумеется, нет. Знакомство с внешнеполитической практикой Речи Посполитой вело к заимствованиям как положительного, так и отрицательного опыта. В первую очередь был опробован опыт отрицательный. Вернувшийся из польского плена в Москву Патриарх Филарет Никитич Романов, в целом являвшийся ярым противником Польши, не устоял перед искушением проводить собственную внешнюю политику в обход Посольского приказа. Одним из последствий копирования этой децентрализованной модели стало поражение России в Смоленской войне 1632 — 1634 годов. Следом за этим был апробирован и позитивный опыт. В 1634 году московская дипломатия впервые попыталась обзавестись постоянной резидентурой за рубежом — в Стокгольме. Эта инициатива исходила от руководителя Посольского приказа И. Т. Грамотина, жившего некоторое время, в годы Смуты, в изгнании в Польше. Вряд ли мы ошибёмся, предположив, что решение об организации постоянной миссии за границей было подсказано Грамотину, в числе прочего, и его польскими впечатлениями: первые польские резидентуры стали возникать в европейских странах ещё с конца XVI века. Но и этот опыт не увенчался успехом: спустя полтора года деятельность русской миссии в Стокгольме была свёрнута, что является ещё одним доказательством консервативности российской государственной системы в целом и дипломатической службы в частности. Потребовалось ещё три десятилетия, чтобы российские представительства за границей завоевали себе право на жизнь.
Итак, мы можем констатировать следующее. Начало XVII века, застав Россию и Польшу в период внутреннего кризиса, столкнув две славянские державы в военном конфликте, предоставило тем не менее им редкую и никогда впоследствии не повторившуюся возможность близко познакомиться с внутренним устройством соседней страны и позаимствовать позитивный опыт. Внутреннее развитие этих стран в начале XVII столетия, казалось, вело Московское царство и Речь Посполитую по сходящимся направлениям: в Польше нарастали абсолютистские тенденции, в России, напротив, предпринимались попытки некоторого ограничения царской власти. Однако ни Московское государство, ни Речь Посполита не воспользовались возможностью заимствования. Причиной этому стало принципиальное различие в политической организации этих государств, а также общий для двух стран дух консерватизма, выражавшийся для поляков латинской формулой «nihil novi», а для русских — принципом «как при прежних великих государях повелось».