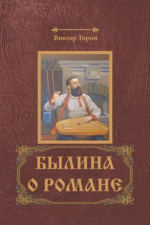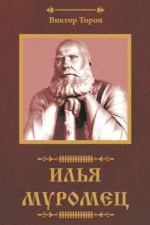М. Ю. Зерчанинова, театральный критик
Летом 1902 года Антон Павлович Чехов приехал погостить в подмосковное имение Любимовка, принадлежавшее Константину Сергеевичу Станиславскому. В то лето все ждали от Чехова новой пьесы, знали, что в общих чертах она уже обдумана и даже было известно название – «Вишневый сад».
Хозяин Любимовки, сам отдыхавший с семьёй за границей, втайне надеялся, что в идиллической атмосфере дачной жизни скорее родится пьеса, обещанная к началу нового сезона. Напрасно: ни летом, ни вообще в тот год Чехов не написал ни строчки. Но когда в сентябре 1903 года Станиславский всё-таки получил текст последнего чеховского шедевра, то сразу же узнал в его типажах некоторых своих домочадцев, а в бытовой среде пьесы – весь уклад летней жизни в имении на берегу Клязьмы, с чаепитиями и гудками паровозов с ближней железнодорожной станции Тарасовки.
Отлежавшись в творческой лаборатории писателя, впечатления любимовского лета дали всходы. Но вот что было бы интересно узнать: а знаменитый чеховский «звук лопнувшей струны» из второго акта «Вишневого сада», это тревожное предвестие надвигающегося конца – слышал ли и Станиславский его так же отчётливо в вечереющем небе над мирными крышами изящных усадебных строений? Мог ли богатейший потомственный фабрикант Алексеев (настоящая фамилия создателя МХАТа) предвидеть такую картину: 1917 год, полуголодный, с мешком картошки он возвращается на грязной электричке из театра в Любимовку, чтобы найти там комиссаров, которые навсегда отнимут у него семейное гнездо.
Проекты ИРИО
Информация
Императорское Русское историческое общество было основано в марте 1866 года в Санкт-Петербурге по предложению и под личным председательством цесаревича Александра Александровича. После революции 1917 года Императорское Русское историческое общество было запрещено. Возрождение общества состоялось 16 апреля 1991 года. Целью общества является развитие российской исторической науки, популяризация исторического знания, патриотическое воспитание молодежи.