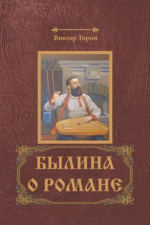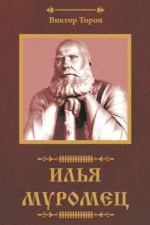Еще много старых барских усадеб доживает свой долгий век в разных концах России. Но лучшие, как в смысле стильности и сохранности, так и по своей художественности, почти все принадлежат к числу подмосковных. Они строились и украшались лучшими мастерами своего времени, наполнялись художественными произведениями, в громадных парках щедро разбрасывались декоративные сооружения.
До сих пор служащие для житья, подмосковные в большинстве старательно поддерживаются своими владельцами, и если не сохранили прежнего великолепия во всей его шири, то все же служат любопытным памятником эстетических вкусов и культурных потребностей старого барства.
Эпидемия усадебного строительства, охватившая русское дворянство во второй половине XVIII века, глубоко коренится в той новой житейской философии, которая пришла на смену придворной беспринципности Елизаветинского царствования.
Долго русский европеец жил не философствуя, веселился и выслуживался, льстил и угождал при дворе. Все его духовные силы были направлены на интриги и придворную борьбу. Даже тот, кто чувствовал в своей душе творческие силы, писал стихи и рисовал — безбожно льстя, унижаясь и прославляя несуществующие добродетели.
При таком узкостяжательном настроении все идеалы вращались вокруг двора и палат вельмож, откуда щедро сыпались чины, ордена и денежные награды.
Затем, в 1770-х годах, отчасти под живительным влиянием французской философии, обесценившей идеалы и радости светской суеты, но еще в большей степени благодаря экономической самостоятельности дворянства, позволявшей ему не дорожить крохами с придворного стола, в литературе начинается упорная переоценка всех понятий придворного человека.
Творчество Державина, немало послужившее самой приторной и расчетливой лести, начинает звучать совершенно противоположными мотивами. Певец Фелицы, ее щедрости и добродетели, становится проповедником уединения, покоя, отказа от тревожной славы и чинов.
Раньше по поводу посещения Императрицей камер-фрейлины Анны Степановны Протасовой поэт «восклицал»:
О, наша мать! Сердец царица!
О, ангел, а не человек!
О, кротка Севера денница!
Сияй и озаряй нас ввек.
Тобой блаженство мы вкушаем,
Тобой мы дышим и живем,
Тебе сердца мы посвящаем,
И благодарну песнь поем...
Теперь, под влиянием новых настроений, Державин, переходит к анакреонтическим песням, грезит о пастушеской и сельской жизни:
...не надо звучных строев:
Петь откажемся героев,
А начнем мы петь любовь.
Жизненная программа, диктуемая новой философией, идет в разрез не только с придворным этикетом, но и является вызовом тем, кто считает, что лишний орден или чин может дать счастье человеку:
Сосед! на свете все пустое:
Богатство, слава и чины:
А если за добро прямое
Мечты быть могут почтены, —
То здраво и покойно жить,
С друзьями время проводить,
Красот любить, любимым быть
И с ними сладко есть и пить.
Теряют смысл и красоту не только придворные почести и светские удовольствия, но и воинская слава:
Гонялся я за звучной славой,
Встречал я смело ядра лбом;
Сей зверской упоен отравой,
Я был ужасным дураком.
Какая польза страшным быть?
Себя губить, других мертвить,
В убийстве время проводить?
Безумно на убой ходить!
Конечно, в этих обличениях и иронических выпадах против всякой деятельности, нельзя видеть особой зрелости мысли, жажды искренности и практической честности.
Панегирик ленивому покою говорит об отказе от жизни, от творчества и борьбы, от всего, что нарушает тихое благоденствие в объятиях сытости и праздности. Отказ от активной роли был первым симптомом упадка русского дворянства, выразившегося в направлении всех душевных сил на создание красивых и уютных форм жизни.
В поисках покоя и сельских радостей, казавшихся особенно желанными в виде контраста с опротивевшей городской суетой, дворяне создают себе красивые «Эрмитажи», в которых, не отказываясь от удобств культуры, пользуются всеми преимуществами деревенской жизни. «Здесь в объятиях приятной природы, — мечтал чувствительный барин, — под сладкое журчанье ручейков, под пенье хора сельских нимф, отдавая дань музам, проведу я спокойные дни свои.,.»
В этих убежищах, созданных для идиллии, наслаждения и покоя, все должно быть красиво и поэтично. Из всех затей русского барства самые грандиозные — подмосковные усадьбы.
В основе усадебной культуры не лежало никакой ни экономической, ни социальной необходимости. Удовлетворенное барство, овладевшее всеми материальными благами мира и отказавшееся от тех тяжелых духовных благ, которые не вяжутся с идеалом животного благополучия, строит и украшает усадьбы, устраивает пышные празднества и веселится.
Отказ от политической и общественной роли привлекает праздное барство к искусству и литературе, создает в них небывалую эпоху расцвета, — ив этих неумирающих культурных ценностях историческое оправдание безволия русского барства...
Дворянские усадьбы XVII века и первой половины XVIII никогда не достигали той степени роскоши, которую мы встречаем в усадьбах позднейших.
Барские хоромы строились из дерева, в обычном типе русских деревенских построек. Их окружали многочисленные службы — такие же рубленые избы. Сельская жизнь не привлекала высшего дворянства, и, главное, не родилась еще мысль о возможности окружить себя в деревне всем богатством городской жизни. Единственное, что составляло гордость усадьбы, и для украшения чего не жалелись никакие средства, это — храмы.
От деревянных усадеб XVII века, конечно, не осталось и следов. Но великолепные церкви, рассыпанные по деревням московской и соседних губернии, строившиеся преимущественно из камня, до сих пор служат лучшим памятником подмосковных боярских вотчин.
Чудные барочные церкви, воздвигнутые вокруг Москвы в вотчинах Нарышкиных, создают особый «нарышкинский» стиль, гораздо слабее представленный в самой Москве. Церкви, построенные боярами, часто превосходят храмы государевых вотчин.
Создание загородных резиденций усиленно культивировалось Петром Великим, положившим основание Петергофу, Стрельне, Царскому Селу, Екатерингофу. Примеру императора последовали некоторые приближенные. Но эти загородные дома прививались слабо, почти все ютились вокруг Петербурга и ci роились больше из почтения и угодливости, чем по действительной потребности.
Первые попытки европеизировать заветные родовые гнезда, приспособить их к новым потребностям быта и украсить сообразно с новыми понятиями о красоте, начинаются в середине XVIII века. Едва ли не первыми воздвигают такие усадьбы братья Разумовские, Алексей и Кирилл, украшающие свои многочисленные малороссийские деревни невиданными дворцами и храмами.
Ни одна усадьба времен Елизаветы не дошла до нас целиком. Остались или церкви, или хранящие старую планировку парки, или до неузнаваемости перестроенные дворцы.
Но елизаветинские усадьбы, насколько можно судить о них по гравюрам и описаниям современников, не создали какого-либо особого типа построек и украшений, приспособленного к потребностям жизни в деревне. Те же вычурные растреллиевские дворцы переносились в глушь России и оставались частицами Петербурга или Москвы.
В бывших подмосковных поместьях Алексея и Кирилла Разумовских — Петровском, Горенках, Перове — не сохранилось никаких следов елизаветинских сооружений. О характере бывших там усадеб можно судить по тому, что Елизавета, выстроившая в Перове дворец для Алексея Разумовского, велела потом по тому же проекту строить дворец в Киеве.
Таким образом, русская архитектура времен Растрелли знала только один тип вычурного раззолоченного дворца, изобилующего скульптурными украшениями и деревянной резьбой, одинаково эффектного и на набережной Невы, и среди подмосковных перелесков, и в просторе украинских степей.
Лучшие подмосковные по своему архитектурному облику связаны с расцветом классицизма. Недаром при словах «старая усадьба» в воображении русского человека встает белый дом с колоннами и фронтоном.
Этот тип подмосковных складывался между 1780-м и 1790-м годом, в периоде оживления барской Москвы. Первой усадьбой «большого стиля» было шереметевское Кусково, уже в 1780 году поразившее такого избалованного ценителя, как австрийский император Иосиф II.
Примеру П. Б. Шереметева, создавшего «московскую Версаль», последовали другие, осевшие в Москве, вельможи, и к концу века в окрестностях Москвы возникает несколько десятков красивых «дворянских гнезд».
Сохранившиеся подмосковные можно разделить на три категории. Во главе нужно поставить усадьбы московских магнатов с грандиозными дворцами, выстроенными по проектам лучших архитекторов, всевозможными павильонами, театрами, «эрмитажами» и прочими изящными затеями, великолепными «регулярными» парками с партерами, лабиринтами дорожек, статуями, памятниками, прудами и т. д.
Эти парки — художественные создания забытого теперь «садового искусства», имевшего своих прославленных мастеров, свои традиции.
К категории таких усадеб высшего ранга надо причислить, кроме шереметевских Кускова и Останкина, Архангельское, созданное князем Н. С. Голицыным и от него перешедшее к Юсуповым, Марфино — графа Панина и Кузьминки — Голицыных.
Дворцы и декоративный сооружения в этих усадьбах — превосходные создания русской классической архитектуры, прелесть которых возрастает от красивой гармонии произведений искусства с данными природы, умелого расположения строений, развивающего сложный архитектурный замысел, от той особой остроты художественного восприятия, которая создается контрастом человеческого творения и декорации природы.
В усадьбах этих чувствуешь себя, как в прекрасном музее, где все создано для восторженного любования. Строители их, сознавая и намеренно подчеркивая художественность своих подмосковных, не запирались в них, чтобы самодовольно наслаждаться созданными и собранными сокровищами, но с барским радушием открывали доступ к ним всей Москве.
С давних пор излюбленной загородной поездкой считалось посещение Кускова, где особенно поражали московскую публику богатейшие оранжереи.
Затем идут более скромные усадьбы, чуждые особых затей, приспособленные для удобного и спокойного житья. Барский дом в этих усадьбах чаще возводили второстепенные или даже свои архитекторы, иногда по образцу какой-нибудь соседней пышной усадьбы, иногда пользуясь указаниями городских архитекторов.
План дома приспособлен к потребностям широкого домашнего быта, и забота об уюте пересиливает стремление к великолепию.
Парк украшали только пруды, пристани да несколько круглых беседок обычного типа.
Художественного интереса эти усадьбы представлять не могут; но их заросшие, запущенные парки с ветхими беседками необыкновенно поэтично окружают старый уютный дом. Старинная мебель, ветхая роспись по стенам и скульптурные украшения какого-нибудь доморощенного художника окружают эти дома какими-то романтическими грезами, навевают грустные воспоминания о том, чего, может быть, никогда и не было...
Тем не менее, в усадьбах этой категории встречаются интересные росписи стен и потолков, любопытные архитектурные мотивы, — мастерски разработанные террасы и сходы в парк. Но опять-таки более характерные для эстетических запросов московского барства, чем для русского искусства конца XVIII века.
Стильность таких усадеб нередко бывает нарушена. Последующие поколения владельцев, смотря на свой дом не как на художественное произведение, а как на удобное летнее жилище, не стеснялись перестраивать его и расширять. Поэтому рядом с чистым Empire’ом можно найти следы готики 30-х годов и даже позднейших неопределенных эстетических течений.
И, наконец — третья категория, — усадьбы, носящие чисто бытовой характер. Это создания доморощенного классицизма. Они строились часто по проектам и приказаниям самого барина, насмотревшегося в Москве или за границей на архитектурные сооружения и воспроизводившего в своей усадьбе все, что ему понравилось и недорого стоило.
Тут эстетика совершенно подчинялась быту. Приходила фантазия завести оранжерею — пристраивали ее к готовому дому. Увеличивалось семейство — прилепляли мезонин. И все строилось прочно, уютно, но некрасиво...
Если усадьбы-дворцы создавались для великолепных празднеств и восхищения гостей, усадьбы среднего типа —для летнего житья культурного барина, не желающего даже в деревне отказаться от роскоши и удобств городского быта, то последние имели характер строго практический, хозяйственный. Число таких подмосковных незначительно, но в далеких уездах — это самый распространенный тип средней дворянской усадьбы.
Идеально использованы все особенности местоположения в самой эффектной и роскошной подмосковной — Архангельском Юсуповых. Необыкновенно выдержанная гармония искусства и природы составляет главное очарование Архангельского.
Кругом дома шумит столетний парк. Из усадьбы видны поля и холмы. Среди этой обычной картины, как совершенно законное, нужное ее дополнение, вырисовывается барский дом, белые статуи и террасы среди зарослей парка
Нет и следа запущенности или дикости. Старательный уход чувствуется во всем, но контраста с окружающим пейзажем не создает эта искусственная красота. Создатель Архангельского видит в природе могучего союзника, усиливающего и возвышающего его искусство.
Имя художника, создавшего Архангельское — эту красивейшую из подмосковных, документально не установлено, но предание называет Кваренги, любимого архитектора Екатерины II, делавшего много проектов для построек московских бар.
Вечно занятый при дворе, Кваренги мог дать проект, но никак не руководить постройкой, размещать отдельные сооружения, наблюдать за разбивкой парка. Между тем, строгий и при этом — единый глаз художника чувствуется в Архангельском во всем. Скорей всего, при спешной обстройке усадеб, целая комиссия художников и мастеров заведовала работами.
Архангельское обстраивалось в середине 1780-х годов, в период увлечения русских архитекторов смягченным, и утонченными, классицизмом, создавшим екатерининский стиль, переходную ступень к суровому изяществу Empire’ а.
Очень оригинальны выездные ворота Архангельского. Белая арка с барельефным изображением летящей славы производит впечатление развалившейся. Ее верхняя сторона ограничена неровными уступами, словно от выпавших камней, основание ворот уходит в землю без всякой базы или фундамента и довершает впечатление античной руины.
В конце XVIII века, влюбившегося в памятники классической древности, грезившего ими, входят в моду декоративные сооружения, дающие иллюзию древнегреческой или римской развалины. В Архангельском этот эффектный прием употреблен для въездных ворот, и не вполне удачно, потому что вся последующая картина стройных колоннад, симметрично распланированного сада, зеленых плоскостей партера совершенно не гармонирует с идеей запущенности и ветхости.
Простой, почти без украшений, дворец, окруженный вековыми деревьями, кажется наряднее, благодаря благородной выдержанности масс, и составляет как бы пере ход от унылой и пыльной дороги к неожиданно развертывающейся сказочной панораме парка.
Хотя лучшая и большая часть художественных сокровищ, стильной мебели и прочего перевезена владельцами в их петербургский дом, внутреннее убранство дворца сохранилось отлично.
Одна из лучших зал в доме — ротонда, — излюбленнал русской классической архитектурой круглая зала с колоннами. Редкая выдержанность во всем, начиная от дивной бронзовой люстры и кончая мебелью и ее расстановкой, делает эту залу превосходным декоративным мотивом раннего Empire’a.
По современным гравюрам, изображающим внутренность комнат, залы никогда не загромождались мебелью, чинно расставленной у стен или в середине, но всегда в подчинении архитектурному замыслу.
В эту эпоху лучшие художники не гнушались делать рисунки диванов и каминов, о расстановке мебели также заботились, как и о расстановке статуй в парке.
Роскошь совершенно не соответствовала классической архитектуре. Внутреннее убранство комнат обыкновенно поручалось архитектору, создавшему их стены. Меткой орнаментацией, изящным поясом карниза, небольшими барельефами над дверями и между колоннами, выделялась архитектурная красота, оттенялась гармония масс. В этом отношении залы Архангельского — истинный шедевр декоративно мастерства конца XVIII века.
Давнишняя слава Архангельского — его парк. Других таких парков в России нет. Из окон дворца видны уступчатые террасы, окаймленные статуями и вазами, украшенные фонтанами. За ними расстилается «партер», плоская широкая аллея, покрытая газоном и открывающая широкий перспективный вид. Вдали золотятся поля, блестит стальная полоса Москвы-реки...
Вся эта картина так необычна, так напоминает какой-то давно виденный сон, что странно подумать, что в нескольких верстах шумит Москва, коптят фабрики, тянутся пыльные и душные улицы.
Здесь когда-то был Пушкин и в красивом послании «К вельможе» воспел Архангельское.
Архангельское мало популярно среди москвичей, несмотря на удобство сообщения и свободный доступ в парк. Между тем, ни в одной подмосковной не кристаллизовалась так отчетливо красота XVIII века, мечтательная прелесть его созданий. Мрамор, такой неожиданный среди русских сосен и лип, античные статуи — все это кажется дивной декорацией или сказкой о заколдованных замках.
Архангельское не знало шумных празднеств, и барское веселье не нарушало его поэтичной задумчивости. Через несколько лет, по окончании усадьбы, имение перешло к князю Н. Б. Юсупову. Он уединился в своем роскошном поместье, собрал превосходную библиотеку, большую коллекцию картин, одну из лучших в Москве, и оставался чужд всем шумным забавам московского барства.
Архангельское привлекало москвичей своими художественными сокровищами. Оно было «приютом муз», и сосредоточенная изысканная красота его парка как бы дополняла торжественный и суровый покой дворца-музея.
Благодаря этому, ни в мемуарах, ни в переписке не сохранилось никаких сведений об Архангельском, привлекшем восторженное внимание московского общества уже в то время, когда мемуары почти вышли из моды, и деловой темп жизни отлучил от дружеской переписки, занимавшей важное место в жизни допожарной Москвы.
Довольно редкий тип усадьбы, выстроенной во второй четверти XIX века по широкому масштабу старого барства, мы встречаем в Марфино — подмосковной графини Паниной.
Марфино, в XVIII веке принадлежавшее Голицыным, затем перешедшее к Салтыковым, одна из самых старинных барских усадеб. Свой теперешний облик оно получило в начале 1840-х годов, в эпоху кратковременного увлечения русской архитектуры готикой.
Целый ряд счастливых природных условии и оригинальная, немного фантастическая красота подмосковной готики, делают Марфино одной из самых поэтических русских усадеб. Удачное расположение на берегу громадного пруда, и величественные размеры зданий придают Марфину романтическую прелесть какого-то замка средневековой легенды.
Строителем Марфина был М. Д. Быковский, ученик Джилярди, порвавший со строго классическими заветами своего учителя.
Барский дом и мрачный въездной мост, напоминающий какую-то старинную крепость, — отражаются в воде, и это естественное украшение — главная прелесть Марфина.
От дома широкая терраса ведет к пристани с грифонами, довольно примитивной обработки.
От двух веков культурной жизни в Марфине осталась отличная портретная галерея его прежних владельцев и их родственников, масса интересных преданий и воспоминаний, ценных для изучения барской жизни, и несколько зданий, не вполне сохранивших свой первоначальный облик.
От начала XVIII века, когда Марфино еще было во владении князей Голицыных, сохранилась небольшая изящная церковь, перестроенная и подновленная в 1840-х годах Быковским. Ее строил крепостной архитектор Белозеров. Трагическая участь дворового художника, сохранившаяся в предании, подтвержденном надписью на его могильной плите, характерная бытовая страница. Барин требовал, чтобы церковь строилась без внутренних столбов. Архитектор нарушил приказание и был засечен...
В конце XVIII века были выстроены два громадных здания, уцелевшие до сих пор на дворе усадьбы. Они напоминают барские дома в небогатых усадьбах, но оказываются псарнями, дворцами для охотничьих собак. Исходя от этих молчаливых свидетелей прошлого, можно вывести заключение о той шумной и роскошной жизни, что когда-то кипела в Марфине.
Сохранился ряд рассказов о великолепных марфинских празднествах. Съезжались толпы гостей из Москвы, в парке без устали гремела музыка, ставились любительские спектакли, причем шли специально написанные сентиментальные пьески Карамзина, славился мир и довольство «поселян» под сенью добродетельных господ.
Рассмотренные усадьбы представляют вполне законченное художественное целое. Мы ни разу не замечали, чтобы замысел художника стеснялся и направлялся потребностями быта. Между тем, есть большое количество подмосковных, в которых ясно чувствуется, что строители их заботились о красоте лишь постольку, поскольку это допускалось соображениями удобства и практичности.
Часто встречается простой помещичий дом, деревянный сруб, дополненный классическим портиком. Абсолютная художественная ценность такого дома весьма условна. Но в то же время в его скромной архитектуре есть что-то останавливающее внимание, дающее впечатление чего-то красивого и поэтичного.
Бывшая подмосковная кн. Трубецких — Ахтырка — может служить образцом такого «дома с колоннами». Приземистый барский дом, выстроенный в первые годы XIX века, представляет довольно гармоничную смесь великолепной классической архитектуры с самым бесхитростным помещичьим жильем.
В отдельных частях узнается рука перворазрядного архитектора, но в целом много вольностей, может быть, допущенных позднее, за долгий столетний срок существования Ахтырки. Деревянные решетки на крышах и русские окна — несомненно, позднейшего происхождения.
Полукруглый портик, образующий крыльцо со стороны садового фасада, — редкой красоты и нарядности. Старые гравюры, правда, немного склонные к приукрашиванию, представляют нам Ахтырку в более пышном виде. Парк не подходил так близко к дому, и он доминировал над усадьбой. Великолепная пристань с обелисками, против обычая — без львов и сфинксов, изящно заканчивала пригорок, на котором возвышался дом.
Нет более поэтичной подмосковной, чем обветшалые Ярополицы Гончаровых. Имя Пушкина, бывавшего здесь у родственников своей жены, заставляет внимательнее относиться к незамысловатому дому, утопающему в густых зарослях парка.
Дом Ярополиц, выстроенный каким-нибудь доморощенным классиком без претензии на художественное совершенство, относится к самому концу XVIII века.
Своеобразной особенностью Ярополиц является высокая стена, наподобие какой-то крепости или Кремля, с неуклюжими башнями по углам и у въездов, опоясывающая всю усадьбу. Фантастический облик этого помещичьего Кремля не позволяет определить время его создания. По-видимому, это 1780-е годы, когда с легкой руки Матвея Казакова, выстроившего Царицынский и Петровский дворцы в «русско-готическом вкусе», вошли в моду такие отступления от эстетических традиций XVIII века.
Создавались такие причудливые сооружения и в 1830-х годах. Но к тому времени дела Гончаровых уже были расстроены, и исполнение дорогостоящей прихоти было бы им уже не по силам.
Парадные комнаты Ярополицкой усадьбы — небольшие, тесные и полутемные, благодаря окружающему дом парку, — заботливо украшены, но на всем разлита наивная старательность, добросовестное следование за вкусами своего века.
Стены, расписанные ландшафтами с классическими храмами и руинами, барельефы над дверями, узорчатые карнизы, колонны в зале, уместные и логичные в Останкинском дворце, в низком и уютном зале Ярополиц отдают всей чудаковатостью доброго старого времени.
Такая же «самодельная» церковь с классическими колоннами, тяжелым куполом и громадным медным шаром под крестом, довершает патриархально идиллический характер Ярополиц.
Эстетика прошла мимо Ярополиц, но бытовые черты запечатлелись в каждом уголке, в каждом камне, с большой выразительностью. Здесь чувствуется подлинная жизнь прошлого, со всеми ее странностями и особенностями.
Эклектическое творчество 40-х годов, кроме Марфина, хорошо представлено в Александровском, бывшей подмосковной Всеволожских, теперь принадлежащей П. П. Рябушинскому.
Это чуть ли не единственная усадьба, обходящаяся без традиционной колоннады. Наружная сторона дома самой неопределенной архитектуры, порвавшей с классицизмом и как будто приблизившейся к петровскому барокко. Из комнат интересна Empire’ная библиотека и довольно бедная зала со статуями в нишах. В прикладном и декоративном искусстве гораздо больше, чем в архитектуре, почти до 1850-х годов, упорно властвовал стиль Empire...
Библиотека Александровского, — с громадными во всю стену книжными шкафами, отделанными бронзой и маленькими статуэтками в нишах, с большим стенным зеркалом, — необыкновенной чистоты стиля.
Несмотря на большое количество сохранившихся подмосковных, мы видим, что многие великолепные усадьбы, восхищавшие современников, не дошли до нас. Их строители быстрыми шагами двигались к разорению.
Кроме того, большинство вельмож эпохи Екатерины умерло, не оставив мужского потомства. Так погибли бесчисленные усадьбы Разумовских, Завадовского, Безбородко, Потемкина и других.
В подмосковных баре продолжали тот же широкий образ жизни, что и в Москве. Хозяйственные заботы не нарушали веселого состояния духа барина и с первых же дней прибытия в летнюю резиденцию начинались приготовления к приему гостей, к торжествам по случаю семейных праздников и т. п. поводов созвать гостей и потешить их тщательно разработанной программой увеселений.
Идиллическое уединение, углубление в вывезенные из-за границы книжные и художественные сокровища было совершенно не в обычае большого барства. Только исключительные мизантропы или усталые старики замыкались в тесном семейном кругу.
Многие особо радушные и богатые баре превращали свои подмосковные в места общественных гуляний и развлечений. Так было в Кусково у Шереметева, в Люблине у Дурасова, в Нескучном у Орлова-Чесменскаго, в Кузьминках у С. М. Голицына. Барский быт в подмосковных ничем не отличался от московского, разве только усилением страсти к гостеприимству и хлебосольству и «сельскими веселиями».
Гости съезжались на несколько суток. Программа празднеств составлялась с большой тщательностью и продуманностью. Искусство, природа, фантазия самого барина и многочисленных домочадцев — все было привлечено, чтобы создать что-нибудь исключительное, о чем бы долго помнила Москва, и, всех удивляя, разнеслась бы весть по всей России.
Большим мастером на такие выдумки был Н. П. Архаров. Между прочим, — его дворня в начале века славилась по Москве своей распущенностью, и кличка «архаровец» соответствовала теперешнему «хулиган».
Сохранился восторженный рассказ современника о торжествах в подмосковной Архаровых близ Звенигорода, в день рождения жены хозяина. Интересны не сами развлечения, но та добросовестность, с которой выполняется вся тонко разработанная программа, наивный характер увеселений, показывающей, как много детской свежести было в душах этих странных людей XVIII века.
Гости, как водится, съехались накануне торжественного дня. После парадной обедни все вернулись в дом, где слушали пение хора. Затем был сервирован обед на 100 человек. После обеда — карты. Вечером русская комедия «Честное слово», разыгранная домочадцами и приглашенной молодежью.
По окончании комедии гости были приглашены в сад, роскошно иллюминованный. Здесь их ожидал целый ряд сюрпризов. На дороге гостям встретилась избушка на курьих ножках. Один из друзей хозяина крикнул: «Избушка, стань к лесу задом, а к нам передом». Избушка повернулась и пошла перед гостями, водила их по всему саду, привела к роговой музыке и пропала...
Когда гости наслушались музыки, появилась ветряная мельница и повела их дальше. Привела к месту, где пел хор, и тоже исчезла. По окончании пения гости двинулись к беседке на пруду. Тут им представился «пустынник преогромной фигуры, с превеликой седой бородой, ведомый под руки». Подойдя к хозяйке, пустынник подал ей стихи и сказал, что он поднялся нарочно из пещеры, чтобы ее поздравить. Как оказалось после — пустынником был загримирован сам Архаров.
Затем катанье на пруду с песенниками, появление масок, ужин в полночь, а затем бал. В таком же духе был проведен и следующий день, после чего гости начали возвращаться в Москву.
Даже та минимальная зависимость от общественного мнения, которая связывала в Москве большого барина, многим вольнолюбивым натурам казалась нестерпимой. Только в деревне чувствовали они себя вполне свободными и создавали в своем княжестве некоторое подобие двора.
Свита составлялась из дворовых и приживальщиков, на которых возлагались обязанности, соответствующие придворным чинам. Одни в присвоенных им одеждам с булавами в руках шли впереди барина, когда он по воскресеньям во всем параде отправлялся к обедне, другие участвовали в утреннем церемониале, третьи распоряжались по хозяйству, состоя как бы в звании министров.
Любимым развлечением других господ, более патриотично настроенных, были русские песни, пляски и игры крепостных девок, которые для этого созывались на барский двор и увеселяли господ. Руководящая роль в этих «народных развлечениях» возлагалась на дворовых девок, понимавших требования господ и знавших нравящиеся им песни.
Подобные увеселения «поселян и поселянок» сменили у подмосковного дворянства шутов и дураков, которые в начале века продолжали существовать только у захолустного дворянства, да и то в наименее культурных кругах.
Публикуется по изданию: Москва в ее прошлом и настоящем. М., 1909.