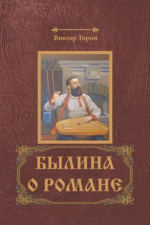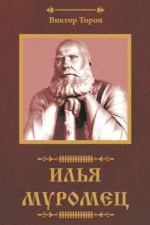Эти ожидания не оправдались, однако они не были беспочвенны. В предвоенные годы страна стремительно развивалась и занимала первое место по динамике экономического роста и товарооборота. За неполные двадцать лет её доля в мировом промышленном производстве выросла более чем в полтора раза, по объёму индустриальной продукции она вошла в пятёрку крупнейших стран наряду с США, Германией, Великобританией, Францией. Появились новые отрасли промышленности: автомобильная, электротехническая, химическая; разрасталась железнодорожная сеть.
Колоссальные изменения в России живо интересовали Европу. Летом 1913 года в Санкт-Петербург приехал М. Верналь, чтобы выяснить условия предоставления России нового займа. Французский финансист пришёл к выводу: в течение ближайших 30 лет в России должен происходить подъём промышленности, вполне сопоставимый с тем, что имел место в США в последней трети XIX века. Тогда же для изучения результатов столыпинской земельной реформы в Россию прибыл профессор Берлинской сельскохозяйственной академии О. Аухаген. Он вполне поддержал «выдающегося сельского хозяина, уроженца Швейцарии, управляющего около 40 лет одним из крупнейших имений России в Харьковской губернии, в том, что “еще 25 лет мира и 25 лет землеустройства – тогда Россия сделается другой страной”» [3, с. 131–132].
Эти оценки подтвердил экономический обозреватель из Франции Эдмон Тери, который в мае 1913 года получил от своего правительства задание изучить состояние российской экономики. Он использовал огромный статистический материал и сделал ряд интересных прогнозов: население России в середине века превысит «большие европейские страны», и она будет доминировать в Европе как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении» [5, с. 12].
Однако воевать предстояло не в 1950-м, а в 1914 году. А к этой войне Россия ещё не была готова. Военные программы были рассчитаны до 1918 года. При этом выполнение их сталкивалось то с одними, то с другими трудностями. Военному ведомству приходилось постоянно занижать требования к обеспечению обороноспособности. Страна отставала в гонке вооружений от Германии, а по определённым параметрам даже от Османской империи. По оценкам генерал-квартирмейстера Ю. Н. Данилова, армия «менее всего была подготовлена к ведению широкой наступательной войны, требующей более гибкой организации и широкого снабжения мощной и подвижной тяжёлой артиллерией, авиационными средствами, современными средствами связи, железнодорожными и понтонными частями, автомобильным транспортом» [1, с. 51].
Да и за бурный экономический подъём приходилось платить – и в прямом, и в переносном смыслах. Россия была богата людьми и ресурсами, но бедна капиталами. Её динамичное обновление основывалось на кредитах, жила она в долг. Кроме того, всякий рост чреват рисками и дисбалансами. Появление «крепкого крестьянина» нередко означало обнищание его соседа, а возникновение нового завода – конфликты между работником и работодателем.
Крестьянство составляло более четырёх пятых населения страны и приносило более половины национального продукта. В 1900–1913 годах доход крестьян от продажи зерновых хлебов вырос на 86%. Расходы на потребительские товары увеличились вдвое. Однако статистика, как известно, лукава. На фоне общего подъёма многие крестьянские хозяйства приходили в упадок, количество бедняков в деревне увеличилось и в некоторых губерниях достигало уже трети. Расслоение крестьянства, естественно, порождало социальное напряжение. Взрыв недовольства, подавленный в 1907 году, оставил тлеющие угли, которые могли вызвать новый пожар – только поднимись ветер.
Не менее сложно складывалась обстановка в городах. Положение рабочих явно улучшилось. Только с 1900 по 1908 год их зарплата выросла приблизительно на 20%. Сокращался рабочий день, теперь он обычно не превышал десяти часов. И всё же своим положением «фабричные» были недовольны. Сверхурочный труд, очень высокий по европейским меркам промышленный травматизм, тяжёлые бытовые условия... Более половины рабочих Юга России продолжали жить в землянках. Так что в предвоенные годы рабочее движение хоть и неравномерно, но угрожающе нарастало. В 1911 году в стачках участвовало около четверти миллиона человек, в 1912 году – уже полтора миллиона. В 1913 году число стачечников упало до уровня менее девятисот тысяч, но только в первом полугодии 1914 года вновь взмыло вверх почти до миллиона четырехсот [7, с. 458]. В июле 1914 года столичные рабочие вышли на антивоенные манифестации. Санкт-Петербург будто вернулся во времена Первой революции: на улицах выросли баррикады, произошли ожесточённые столкновения с полицией.
Спокойнее было на национальных окраинах. Они не доставляли власти особой головной боли, за исключением западных губерний. Российская империя, что бы ни говорили, не была «тюрьмой народов». Большинство национальных, региональных элит традиционно интегрировались в общеимперскую элиту сравнительно легко. Однако правительство, чувствуя за собой силу, мало учитывало интересы национальных меньшинств. Это, естественно, вызывало недовольство, перераставшее в революционное брожение. В 1907 году запретили использовать украинский язык при обучении даже в начальной школе. Через год сократили квоту для студентов-евреев в университетах. В 1910–1912 годах была решительно ограничена самостоятельность Великого княжества Финляндского. В 1912 году МВД отозвало законопроект, разрешавший открытие католических монастырей [2, с. 52–54].
И всё же самым острым был вопрос о власти. Россия стояла на пороге превращения в конституционную монархию. Манифестом 17 октября 1905 года была учреждена Государственная Дума, которой предстояло сделаться важным элементом законотворческого механизма. Правда, для этого пришлось распустить первые две оппозиционные Думы, а 3 июня 1907 года изменить положение о выборах, что нарушало Основные государственные законы Российской империи. Однако даже в Третьей Думе стабильное проправительственное большинство сформировать не удалось.
Государственный аппарат оказался в довольно странном промежуточном положении. Существование Думы обеспечивало некоторую независимость правительства от Императора и относительную свободу манёвра. Без этого не мог бы состояться и П. А. Столыпин как самостоятельная политическая фигура. Однако после его трагической гибели в сентябре 1911 года Совет министров всё менее походил на единое правительство. Руководители ведомств, как было заведено, стремились разрешать разногласия во время личного доклада у Императора, так что премьер-министрам оставалась скорее роль модератора, чем руководителя. Министры же находили в новом порядке свои преимущества. Всё больший груз ответственности за принятие решений ложился на плечи самого Николая II, который не видел иного способа управления страной. Как-то он заметил министру иностранных дел С. Д. Сазонову: «Я, Сергей Дмитриевич, стараюсь ни над чем не задумываться и нахожу, что только так и можно править Россией. Иначе я давно был бы в гробу» [6, с. 297].
Далеко не все важные решения обсуждались и на заседаниях Совета министров. Политика всё чаще уходила в тень, нередко она творилась в придворных кружках и салонах. Миф о всемогуществе Распутина был порождён не столько реальными возможностями «старца», сколько недовольством подобными порядками. А с началом Великой войны появился ещё один орган государственного управления – Ставка Верховного Главнокомандующего. Значительная часть территории Европейской России, включая столицу, оказалась в зоне театра военных действий, а следовательно, должна была подчиняться военным властям, постоянно конфликтовавшим с гражданскими. Отчасти это вынудило Николая II в августе 1915 года сменить Великого князя Николая Николаевича на посту Верховного Главнокомандующего, что породило новые проблемы. Переезд царя из столицы в могилёвскую Ставку нарушил механизмы «ручного управления» в кризисной ситуации.
Спровоцировала её во многом неотлаженность государственной системы управления. Все политические силы считали её временной. Правых монархистов никак не мог удовлетворить порядок, очень напоминавший конституционный. Одни категорически его отрицали, другие пытались низвести Государственную Думу до учреждения «законосоставительного». Умеренные русские либералы – октябристы – полагали, что 17 октября 1905 года между правительством и цензовой частью общественности было заключено своего рода неписаное соглашение: власть пошла на установление конституционных начал, а конструктивная оппозиция согласилась всячески ей содействовать в реформировании страны. Однако о наличии такого договора подозревали, пожалуй, лишь только сами октябристы. Кадеты, представлявшие левое крыло русского либерализма, рассчитывали на существенное расширение функций народного представительства по образцу английского парламента. А для левых радикалов Дума оставалась высокой трибуной, с которой будут хорошо слышны их революционные речи.
Таким образом, политические силы говорили на разных языках и не признавали общих «правил игры». Пока основной заботой депутатов было рутинное законотворчество, это было не слишком заметно, но при любом обострении ситуации партийные знамена расчехлялись [4, с. 54–107].
В июле–августе 1914 года абсолютное большинство партий заняло патриотическую позицию, настаивая на необходимости ведения войны до победного конца. И это касалось не только либеральной оппозиции (кадетов и прогрессистов), готовой на время забыть обо всех претензиях к правительству. Аналогичным образом поступило большинство лидеров социал-демократов и эсеров. Даже некоторые анархисты (П. А. Кропоткин) выступали за непременную победу в войне. Исключение составили большевики, малочисленные меньшевики-интернационалисты и левые эсеры. Но пока, на начальном этапе войны, общественного настроения они не определяли.
Россия вступала в Великую войну с грузом проблем, который нельзя назвать непосильным. Ни одна из воюющих держав Европы не была свободна от подобных, и все настраивались на короткую победоносную войну. Общий патриотический подъём и готовность идти на жертвы ради защиты Отечества – таково было общее настроение в 1914 году. К разочарованию современников война оказалась затяжной; изнурительные позиционные сражения оказались непосильным испытанием для большинства стран. Сбой политической системы привёл Россию в стан проигравших.
Литература и источники
1. Данилов Ю. Н. Россия в мировой войне. 1914–1915 гг. Берлин, 1924.
2. Дякин В. С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX – начало XX в.). СПб., 1998.
3. Могилевский К. И., Соловьёв К. А. П. А. Столыпин: личность и реформы. М., 2011.
4. Соловьёв К. А. Законодательная и исполнительная власть в России: механизмы взаимодействия (1906–1914 гг.). М., 2011.
5. Тери Э. Экономическое преобразование России. М., 2008.
6. Шавельский Г. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. М., 2010.
7. Экономическая история России с древнейших времён до 1917 г.: Энциклопедия: в 2 т. М., 2009.