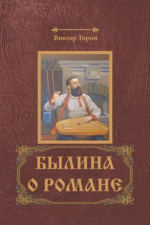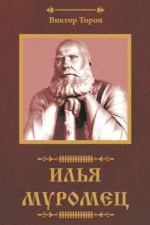И слова президента дают повод вспомнить, что, согласно «Манифесту коммунистической партии», для рабочих и их коммунистических вождей не существовало Отечества, а существовал только социализм: социализм превыше всего. Исходя из этого краеугольного марксистского положения Ленин считал благом поражение России в войне с немецкими агрессорами. Именно поэтому призывал к переводу мировой войны в самую страшную войну — гражданскую.
Давайте представим следующую агрессию Германии. Предположим, в 1941 г. кто-то из наших политиков вступает в переговоры с руководством Германии, которое разрешает проехать через свою территорию и дает деньги для антиправительственной деятельности в нашей стране. Как Сталин поступил бы с таким политиком?..
90 лет назад произошла Октябрьская социалистическая революция, которая, как оказалось, обещала народу одно, а дала ему совершенно другое. Декрет о мире обернулся гражданской войной; в результате после декрета погибло более 10 миллионов человек, в 10 раз больше, чем до декрета. Декрет о земле обернулся раскрестьяниванием России и вторым закрепощением крестьянства, теперь не в помещичьи хозяйства, а в совхозы и колхозы.
II съезд советов принял решение о создании Временного рабоче-крестьянского правительства (совнаркома) и созыве Всероссийского Учредительного собрания. Одновременно лидеры большевиков понимали, что в крестьянской стране они проиграют демократические выборы в Учредительное собрание; а, следовательно, разгонят собрание и забудут про временный статус своего совнаркома. Да и рабочих и крестьян в совнаркоме не было.
Причем II съезд советов представлял меньшинство советов рабочих и солдатских депутатов, а крестьянские советы вовсе не позвали на съезд. Значительное большинство советов на местах поддерживало не большевиков, а эсеров и меньшевиков. И большинство советов в 1918 г. было не переизбрано, а разогнано партией Ленина, которая тем самым совершила антисоветский переворот в стране. С тех пор советы превратились в ширму узурпировавшей власть партии.
Разогнав Учредительное собрание и не передав власть от Временного рабоче-крестьянского правительства — законному правительству во главе с эсерами, которых поддержало большинство народа на выборах, партия Ленина предрешила и сползание страны в гражданскую войну, и красный террор, и ГУЛАГ. Предрешила потому, что невозможно руководить демократически, если располагаешь поддержкой лишь 22-24% избирателей (и это на пике популярности, после декретов о мире и земле).
И только теперь, после победы Демократической российской революции рубежа восьмидесятых-девяностых годов ХХ векаи, соответственно, исторического поражения Октябрьской социалистической революции, возможно свободно осмысливать трагические уроки Октября. Для этого собрался сегодняшний круглый стол и соберется круглый стол 30 октября.
Основные проблемы, которые мы сегодня будем обсуждать: место Октябрьской революции в истории России, судьба и последствия разгона Учредительного собрания, роль личностей в революции.
А. Н. МЕДУШЕВСКИЙ, доктор исторических наук.
Место Октябрьской революции в историческом развитии России можно определить в широком и узком смысле. В широком смысле, учитывая все исторические последствия данного события, можно сказать, что это цивилизационная катастрофа, отказ от правового европейского пути развития, ретрадиционализация общества, как говорил П. Н. Милюков, переход его из ХХ в. в ХVII-й, разрушение институтов гражданского общества и политической демократии, созданной Февральской революцией и всем предшествующим развитием, начиная с реформ 1861 г., а в каком-то смысле даже с реформ Петра Великого.
В узком смысле слова Октябрьская революция — это государственный переворот, осуществленный вооруженным путем, направленный на ликвидацию демократической власти и установление однопартийной диктатуры. Суть переворота — не допустить созыва Учредительного собрания, способного установить прочные конституционные основы новой государственности. Можно даже дать более жесткое определение — это переворот, направленный на срыв Учредительного собрания и правовых форм социально-политической модернизации в стране.
Теперь некоторые доказательства этого тезиса — почему это был переворот, направленный против Учредительного собрания. Идея Учредительного собрания объективно составляла основу легитимности любого правового политического режима, способного возникнуть в переходный период. Она закладывала основу договорной модели перехода к новому государственному устройству и создавала тем самым инструмент достижения компромисса между политическими партиями в переходный период. Учредительное собрание обеспечивало пусть не юридическую, но идеологическую преемственность между различными периодами российской истории и стадиями революционного процесса. Учредительное собрание легитимировало путем демократических выборов новые институты государственной власти как внутри страны, так и за рубежом, с точки зрения их оценки с позиций международного права.
Таким образом, с Учредительным собранием создавалась основа выхода из острого политического кризиса, вызванного войной и революцией, мирным путем, то есть без гражданской войны и террора.
Все эти направления развития политической системы и были оборваны большевистским переворотом и последующим роспуском Учредительного собрания. Полагаю, что мы лучше поймем смысл и значение октябрьского переворота большевиков, если попытаемся рассмотреть его в перспективе Учредительного собрания. Смысл этого переворота и даже определения сроков его проведения, методы его осуществления связаны с предстоящим созывом Учредительного собрания. Механизм этого предприятия, его замысла и его осуществления (я имею в виду переворот) видится мне следующим образом. Важнейший компонент переворота — осуществить подстановку: заменить один тип Конституанты, а именно Учредительное собрание, другим — Съездом Советов. Это первый элемент. Второй элемент — фальсифицировать Съезд Советов путем выборных и иных махинаций таким образом, чтобы он выражал интересы только одной партии, а именно большевиков. Третий элемент: поставить Съезд Советов перед фактом совершения государственного переворота. Поэтому важен был именно момент совершения переворота. Вы знаете эту фразу: «Сегодня рано, завтра поздно. Только ночью и только накануне или в период Съезда Советов». И, наконец, использовать систему Советов для установления однопартийной диктатуры и, в общем, обмана общественного мнения.
Советы оказались негодны как органы власти (и они не могли ими быть по определению), но они оказались очень хорошим средством обмана людей, то есть играли ключевую роль в создании видимости демократических институтов при их реальном отсутствии. В конечном счете, в «советской демократии» достигает наивысшего выражения правовой нигилизм и замена права политической целесообразностью.
А. Н. БОХАНОВ, доктор исторических наук.
Тема огромная, многослойная и очень живая. У нас до сих пор идет романтизация революций — и революций вокруг нас, и революций в нас. Количество сочинений, телепрограмм и публикаций, связанных с вождями революций, с их женами, любовницами, детьми и внуками превышает все допустимые пределы. При этом в моральной оценке революции, в общем, сейчас превалирует отрицательная, но, тем не менее, интерес к ней неослабевающий. Я думаю, что преодоление революционной чумы в нашем сознании, в нашем мировосприятии очень важно и необходимо для того, чтобы двигаться вперед, а не ходить вокруг и не искать позитивные зерна, направления, смыслы и цели Великой октябрьской революции, которая якобы открыла миру новую историческую эру.
Революция как таковая, конечно, была закономерна. Очень важно, с моей точки зрения, подчеркнуть, что Октябрь был логически обусловленным продолжением Февраля. Революция 17-го года — это две фазы: собственно революция началась в феврале, а в ноябре она закончилась, и наступило новое состояние после октября 17-го года. Наша революция отличалась от Французской, от Английской революции, поскольку это была первая в мире революция, где интернационализм победил национализм, а идея классовой борьбы победила национальную идею. Никогда в мире до 17-го года революций такого рода не случалось, и естественно этот грандиозный вселенский провал, переворот, разрыв (как угодно назовите) отразился на всем мировом историческом портрете. Еще Чаадаев предсказывал в своем первом «Философическом письме» почти за 100 лет до 17-го года, что Россия скажет свое слово, — вот она и сказала, и ХХ век стал русским веком, потому что вся мировая фабула исторического действия — глобальные композиции, конфликты и войны — они или режиссировались напрямую событиями в России, или опосредованно, но теснейшим образом были с этими событиями связаны. Конечно, в этом смысле ХХ век — действительно русский век.
Что касается диагноза, оценки, очень много по этому поводу говорится, существуют целые библиотеки, и я думаю, что антикоммунистический анализ сути происшедшего с Россией был дан в 18-м году русской интеллектуальной элитой. Весной и летом 18-го года русские интеллектуалы (Бердяев, Франк, Новгородцев, Аскольдов и целый ряд других) составили и издали сборник, который называется «Из глубины», где те предощущения и предзнаменования, которые были зафиксированы в «Вехах», уже воспринимались как сбывшееся пророчество. Там русские интеллектуалы, которые в этот период не были задействованы ни в каких политических пертурбациях, дают однозначную оценку: конечно, это для России катастрофа, и при этом катастрофа логичная, катастрофа очень русская. Она не была привнесена извне. Как писал Струве, «революция обнажила гоголевскую Русь и разнуздала все худшие инстинкты. Это Русь, наряженная в красный колпак». В этом есть глубокий смысл. Вместе с тем, когда мы обращаемся к революции (я имею в виду историков), для нас она очень часто видится как неожиданное стечение обстоятельств: не та была политика, не тот министр, царь себя не так повел, реформы запоздали… Такие тезисы существо проблемы упрощают и примитивизируют.
Конечно, революция — органическое русское явление, предсказанное задолго до Чаадаева: Серафим Саровский, митрополит Филарет, Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский — все великие русские апокалиптики и провидцы предсказывали неизбежное торжество зла на русской земле. Историки наши светские не читают, конечно, духовную литературу, но они читают русскую литературу, которая дала образцы предчувствия, и в этом смысле роман Ф. М. Достоевского «Бесы» в 18-м году воспринимался как осуществление сценария, который был написан Федором Михайловичем ровно за 50 лет до этих событий. Когда великий роман появился, то так называемая «прогрессивная критика» встретила его враждебно, называя «карикатурой». Однако в 1917 году вдруг выяснилось, что это сбывшееся пророчество великого русского писателя-мыслителя.
Революция, в общем-то, никому ничего не дала, зато проиграли все. Прежде всего, речь идет о колоссальных людских потерях. До сих пор так и неизвестно, сколько людей было уничтожено напрямую, сколько оказалось в эмиграции (тут существуют разные точки зрения, разные подсчеты), сколько было косвенных потерь. Конечно, это было вселенское катастрофическое явление, и такому в русской истории вообще не было аналогов, потому что погром XIII-XIV веков, который был связан с татаро-монгольским нашествием, не может служить прецедентом. Последствия революции мы ощущаем почти 100 лет и будем ощущать еще очень долго, потому что, как писал Бердяев, — «она даже походку людей изменила», она геном человеческий, она архетип поменяла. И генетические трансформации, которые внесла революция в жизнь России, будут еще очень долго отражаться на нашей действительности, на нашем настоящем и будущем.
Что же касается Учредительного собрания, то это был эпизод очень незначительный, потому что в условиях войны, разрушительной социальной истерики, которая имело место летом и осенью 17-го года, — проводить ответственные выборы было просто невозможно. Это были не свободные выборы, а скорее всероссийский опрос, в котором участвовали представители целого ряда губерний, главным образом Центральной России. И выяснилось, что победили на выборах как раз представители радикальных и террористических течений и направлений. Если бы даже собрание не было разогнано, то никакого созидательного начала у людей, которые занимались годами и десятилетиями отвержением и ниспровержением, не было. Надеяться на то, что они что-то построят, не приходилось, потому что они не несли никакой ответственности перед прошлым, перед русским историческим опытом, который насчитывал тысячу лет; этот опыт в революции никак не актуализировался, он был отвергнут, отринут раз и навсегда.
В. М. ЛАВРОВ
Лев Григорьевич Протасов — единственный представитель не нашего института, профессор Тамбовского государственного университета.
Л. Г. ПРОТАСОВ, доктор исторических наук
Спасибо за приглашение.
Исходными понятиями в оценке «Октября» в советское время считались два тезиса: «Октябрь — главное событие ХХ века» и «Революция, открывшая новую эру». Ими, таким образом, закрывалась «предыстория» человечества и провозглашалась «настоящая» история. Думается, время все расставило по своим местам и возврата к былым иллюзиям не будет. В истории ХХ века были события явно не менее масштабные и не менее значимые в глобальном смысле — хотя бы обе мировые войны или крах коммунистической системы в СССР. При всем том полагаю, что Октябрь — действительно великое событие не только для нашей страны, но и для всего мира, хотя и разное по своим результатам и последствиям.
В основе Октября лежал, безусловно, целый комплекс факторов объективных и субъективных, долгосрочных и сиюминутных, структурных и случайных. Но в иерархии причин, обусловивших Октябрь именно как национальную катастрофу (а не прорыв в царство социальной справедливости), ведущее место заняла Первая мировая война, заставшая Россию в состоянии исторического транзита, неустойчивого социального равновесия.
Хоть я и не считаю, что Россия перед мировой войной процветала (и на деревьях булки росли), но она вполне динамично развивалась, модернизировалась. Это относится и к политической модернизации, наиболее отстающей области. Внесистемные партии теряли свое влияние, находились в стадии идейного и организационного разброда. Парламентаризм делал явные успехи, и такие партии как кадеты, да и меньшевики все более становились парламентскими. Вместе с тем в социально-экономической сфере сохранялись вопиющие противоречия и деформации, что и сдетонировало социальные потрясения такого размаха.
Хочу обратить внимание на важнейшую особенность восприятия власти в массовом сознании. Падение монархии, явно себя исчерпавшей в том виде, в каком она себя пыталась позиционировать, одновременно означало и утрату сакральности всякой власти в России вообще. Для нашей страны с «магическим сознанием» (К. Поппер) подавляющего большинства населения это приобретало, пожалуй, фатальное значение. Никакая другая власть уже не могла иметь былого авторитета, в том числе и большевики. Характерны рассуждения солдат, пошедших за большевиками: «Если Ленин обманет и мира не даст, мы его на одну веревочку с Керенским повесим. Сила за нами, Что захотим, то и сделаем». Обратный случай: многие крестьяне, голосуя в Учредительное собрание за большевиков, полагали, что голосуют за монархию, поскольку их политический опыт знал только две формы власти: монархию и Временное правительство.
Полагаю также, что главным заблуждением большевиков (точнее, самого Ленина как теоретика большевизма) была их уверенность, что они сломали старое государство и создали новое, «рабоче-крестьянское», выполнив тем самым известный завет Маркса. Иллюзии «самоуправляющегося государства», «полугосударства» довольно быстро развеялись. Не большевики сломали государство, а государство сломало их (что было подмечено еще Н. А. Бердяевым), предопределив бюрократизацию правящей партии и способов решения проблем.
В целом, Октябрь явился катастрофической (в научном понимании термина) формой модернизации России, варварской формой прогресса. Ее последствия для нашей страны были, конечно, неоднозначны. Если в экономическом смысле они могут быть оценены, скорее, как позитивные (хотя и иной режим смог бы, вероятно, решить проблемы индустриализации, только менее болезненно), то в духовно-нравственном — деструктивны, негативны. Для себя я определяю ее итоги так: из страны второго эшелона модернизации, «догоняющего типа» мы выпали в третий эшелон стран с сырьевой экономикой, коррумпированным государством и финансовой зависимостью, что обрекает нас вновь на длительную, «догоняющую» перспективу.
А. К. СОКОЛОВ, доктор исторических наук.
Я думаю, что нам нужно обратиться прежде всего к анализу того, что происходило в 1917 году: как развивались события в исторической последовательности; чем люди жили, на что надеялись, какие были иллюзии, надежды, чем они были вызваны, может быть тогда мы подойдем ближе к пониманию того, что же в действительности происходило в то время, а не гадать на кофейной гуще и витать по этому поводу в теоретических эмпиреях.
Как преодолеть такую разноголосицу мнений, когда для одних события Октября — «10 дней, которые потрясли мир» или прорыв в будущее, для других — «окаянные дни» или национальная катастрофа. В этой связи я бы хотел обратить внимание на несколько моментов.
Заново сегодня переживая события 1917 г., мы не должны забывать, что ХХ век не напрасно зовется временем революций, причем революций весьма специфических, преимущественно крестьянских, от которых за версту несло «азиатчиной». Как прежде рушились престолы в мире, но все больше заявляли о себе крестьянские и национально–освободительные движения, и не случайно, я думаю, в стенах нашего Института в свое время родилась концепция соединения в Октябре трех революций — социалистической, крестьянской и национально–освободительной, которая, как вы помните, шла вразрез с официальной концепцией пролетарской революции в России.
На то, что революции в крестьянских по преимуществу странах имеют свои особенности, в свое время обращали внимание многие авторы, одним из первых Баррингтон Мур в своей книге «Социальные корни демократии и диктатуры», где он связывал революции с последующим социальным устройством общества в ряде стран. Правда, в последнее время, и не только у нас, но и в мире, наблюдается тенденция к трактовке революций как отклонений от естественного нормального развития исторических событий, в отличие от марксизма, который, как всем известно, провозглашал революции «локомотивами истории».
Выходит, что если революции — аномалии, то внимание, естественно, сосредотачивается на поиске этих самых аномалий, и дается изображение революции как национальной трагедии, катастрофы, как это сделано в сравнительно недавно вышедшей на Западе книге Орландо Файджеса «Русская революция: народная трагедия». Однако, на мой взгляд, при таком подходе причина подменяется следствием. Не лучше ли будет поискать в развитии российского общества те аномалии, которые и привели к революции и связанным с нею трагическим последствиям?
В современных теориях революций, между прочим, принято отличать сами революции от их последствий. То, как осуществляется революция, под какими знаменами, далеко не одно и то же. Поэтому я призываю не примешивать к революции то, что случилось потом под влиянием уже других обстоятельств. Пример — вопрос о земле. Революция 1917 г., безусловно, дала ее крестьянам, и это было мощнейшим фактором поддержки большевиков. Сегодня говорят — землю отобрали у крестьян, но это произошло значительно позже в ходе коллективизации. Последствия реализации революционных идей это — другие страницы нашей истории, во многом отличные от того, что было провозглашено революцией.
Второй вопрос — о революционных вождях и их роли в 1917 г. Я убежден, что время делает вождей, а не вожди определяют время. Революция — благоприятное время для вождей. Есть закономерности, которые утверждают: чем ниже уровень грамотности, образования, уровень сознания рядовых людей, тем скорее можно увлечь их различными химерами. Условие для выдвижения вождя — это популизм. Выдвигая простые и доходчивые лозунги, лидеры способны увлечь и повести за собой массы. Разве не так было в революции 1917 года? Вспомним: долой войну, землю крестьянам, фабрики рабочим, угнетенным нациям свободу. Надо учитывать и склонность народного сознания идеализировать вождей, превращать их образы в иконы, в мифы, а развенчивать такие мифы очень и очень сложно. Сколько, например, было усилий, чтобы развенчать образ вождя революции — Ленина? Мы, как историки, знаем, сколько в его действиях было и демагогии, и популизма, и беспощадности, и прочих поступков, которые с точки зрения морали и нравственности не заслуживают никакого восхищения. Тем не менее, необходимо признать, что фигура Ленина в массовом сознании по-прежнему популярна.
Препятствием для вождизма, естественно, является гражданское общество, где люди осознают свою ответственность за принятие решений, отвечают за свои действия. А с гражданским обществом связано и становление гражданских институтов. Когда мы говорим об идее Учредительного собрания в 1917 г., мы все время как бы подчеркиваем ее обреченность в условиях России. Я не совсем согласен с такой постановкой вопроса, у меня — иная точка зрения. Прежде всего, хочу обратить внимание на популярность этой идеи в различных слоях общества после свержения монархии. В лице Учредительного собрания существовала реальная альтернатива — преодоление того вакуума власти, который возник после Февраля. Соберись оно вовремя, и, может быть, события стали бы развиваться в другом русле. А кто и почему тянул с его созывом — вопрос очень важный для освещения революции.
В тогдашних условиях быстрый созыв Учредительного собрания позволил бы, наверное, решить главный вопрос о власти, вопрос о войне, которая всех измучила, приступить к аграрной реформе и т. д.
Почему его созыв все время откладывался? Почему вместо него в 1917 г. выдавались суррогаты: Государственное совещание, Демократическое совещание, Предпарламент, которые не имели в сущности никакой правовой силы? Может быть, учились демократии, превращая важнейшие вопросы в бесконечную болтовню по поводу того, как их решать?
Здесь все время затрагивался вопрос о большевиках и Учредительном собрании. Естественно, все помнят главный лозунг большевиков — вся власть Советам. И одновременно они поддерживали созыв Учредительного собрания. Тут никакого лукавства и обмана не было. Расчет был совершенно очевиден. На что? На то, что Учредительное собрание передаст власть этим самым Советам как основному элементу государственного устройства страны. Это показали последующие события. И когда собралось Учредительное собрание, ему были предложены советские декреты: принять Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, декреты о мире, о земле и т. д.
Но что получилось дальше? Депутаты даже отказались обсуждать эти декреты. Ну почему не обсудить-то? [реплика Л. Г. Протасова: решили отложить]. Когда вопрос был поставлен ребром, 130 большевиков и левых эсеров из 397 собравшихся депутатов ушли с Учредительного собрания. Что за орган остается в данном случае? Я не оправдываю роспуск Учредительного собрания, лишь хочу напомнить, какая реакция за этим последовала. Сами большевики, между прочим, называли первый период выступлений против них демократической контрреволюцией, т. е. под лозунгом Учредительного собрания.
С. В. ТЮТЮКИН, доктор исторических наук.
Я уже не в первый раз выступаю как сторонник широких хронологических рамок революции 1917 г. (напомню, что Великая французская революция, в рамках которой, кстати говоря, был и период «протобольшевистской» якобинской диктатуры, датируется теперь 1789-1799 гг.). Революционные события 1917 г. и ряда последующих лет включают в себя: свержение царизма и провозглашение России демократической республикой, установление и упрочение советской власти, Гражданскую войну, закрепившую победу большевиков, действовавших от имени рабочих и беднейших крестьян. При этом подобный подход не затушевывает принципиальных различий между дооктябрьским и октябрьским этапами данной революции, хотя последний уже не только завершил цикл начатых весной 1917 г. преобразований, но и открыл период социалистического строительства в специфических формах «военного коммунизма», сопровождавшегося грубыми ограничениями совсем недавно завоеванных народом демократических свобод.
Характерно, что почти бескровный характер февральско-мартовских и октябрьско-ноябрьских событий в России был затем с лихвой восполнен массовым кровопролитием в годы Гражданской войны, которая, по самым скромным подсчетам, унесла не менее 13 млн. жизней россиян. Победа «красных» над «белыми» и иностранными интервентами, восстановление под властью большевиков основного территориального ядра бывшей Российской империи, стабилизация советской власти и переход к нэпу символизировали и начало мирного социалистического строительства.
При этом следует подчеркнуть, что, начиная свой грандиозный социальный эксперимент, большевики рассчитывали на близкую победу мировой антиимпериалистической революции. Однако эти надежды не оправдались, и коммунистическим «мечтателям» из Кремля пришлось в дальнейшем действовать в расчете исключительно на собственные силы, что во многом предопределило и ускоренные темпы, и особенно жесткие формы их действий, и установление в СССР так называемого тоталитарного режима.
Таким образом, на мой взгляд, мы можем говорить о Великой российской революции 1917-1921 гг. — великой по своим масштабам, глубине произошедших в ее результате социально-политических трансформаций, последствиям и всемирному значению. Это была в полном смысле слова непрерывная революция, все этапы которой были связаны между собой воедино, вытекали один из другого и имели в основном одних и тех же главных действующих лиц, хотя их качественные различия тоже вполне очевидны и сомнений не вызывают. Монархия в России пала весной 1917 г. вполне закономерно, исчерпав свои созидательные силы и возможности, окончательно подорванные Первой мировой войной. От Николая II буквально отшатнулись и высший генералитет, и верхушка бюрократии, и большинство иерархов Русской православной церкви, а младший брат царя Михаил, которому Николай II хотел передать права на престол, отложил решение этого вопроса до созыва Учредительного собрания. Да и сам император счел за благо не цепляться за свои венценосные права и отдал себя и свою семью в руки возникшей в ходе революции новой российской власти.
Что касается Временного правительства, то в обстановке хозяйственного кризиса и продолжающейся мировой войны, вырвать из которой Россию оно оказалось не в состоянии, его министры, в том числе и министры-социалисты, оказались неспособны ни радикально решить вопросы о мире, земле и снабжении фронта и тыла всем необходимым, без чего успокоить народную стихию в 1917 г. было невозможно, ни конституционно легитимизировать себя на всенародно избранном и оперативно созванном собрании, ни своевременно изолировать от общества леворадикальные элементы в лице большевиков, левых эсеров и анархистов. Сегодня можем, конечно, виртуально войти в то практически безнадежное положение, в котором оказались тогда наследники царизма и, в частности, премьер А. Ф. Керенский. Но трудно отделаться от мысли, что фактически они были обречены на поражение. Решить стоявшие перед ними задачи демократическим путем, не выходя из правового поля, оказалось невозможно, а отважиться на такие решительные шаги, как заключение сепаратного мира, безвозмездная передача крестьянам земли, бесперебойное снабжение населения продовольствием и т. д., Временное правительство так и не смогло, ибо для этого нужно было нарушить обязательства России перед союзниками по Антанте и совершить радикальное вторжение в отношения собственности — эту святая святых буржуазного общества.
Глава Временного правительства Керенский оставил историкам загадку, связанную с его демонстративным разрывом с конца августа 1917 г. с генералом Л. Г. Корниловым, предлагавшим ряд решительных репрессивных мер по обеспечению гражданского мира в стране. С одной стороны, Керенский не мог не понимать, что молодой российской демократии нужно временно пойти на ряд непопулярных мер по ограничению демократии с помощью боевого генерала типа Корнилова. С другой — в Керенском постоянно жил дух Бонапарта, подсказывавший ему, что соглашение с Корниловым может привести к краху его политической карьеры. Наконец, не нужно забывать, что, несмотря на явные тенденции к бонапартизму, Керенский все-таки оставался демократом и социалистом, которого не могла не пугать диктатура и масштабное насилие над человеческой личностью. Что оказалось в данном случае для Керенского главным, мы уже так и не узнаем, как не узнаем и тех обязательств, которые он взял на себя как член масонской организации (а это факт реальный и тоже очень важный). Возможно, что решающую роль в данном случае сыграли слухи о предстоящей расправе монархистов с ним в Ставке, куда его усиленно приглашал Корнилов.
Так или иначе, к осени 1917 г. Керенский, которого еще недавно образно называли «первой любовью революции», уже утратил доверие и патриотов (напомним о провале июньского наступления на фронте и развале армии), и демократов, и социалистов, а главное — простых россиян, которым надоела пустая болтовня о свободе без подкрепления ее реальными делами. В итоге Керенский «заболтал» в 1917 г. демократическую идею примерно так же, как через 70 лет это сделал М. С. Горбачев с идеей «перестройки». Расплата наступила в конце октября 1917 г., когда Керенскому пришлось фактически без боя сдать власть Ленину и Троцкому.
Сегодня мы уже знаем, чем завершился начатый ими эксперимент, хотя еще большой вопрос, можно ли винить Октябрь 1917 г. за все, что произошло в России при Сталине и его преемниках. К тому же многие из его творцов сами стали жертвами сталинских репрессий. Характерно, однако, что точно так же, как расходятся сегодня мнения по поводу событий 1917 г., нет и единой точки зрения на события 1991 г., когда в России произошла еще одна, на этот раз антисоветская и антикоммунистическая революция.
Одни считают, что она была уже изначально запрограммирована при рождении советского государства, поскольку сама социалистическая идея была мертворожденной. Другие винят в случившемся вековую российскую отсталость и дикость, происки мирового империализма, перерождение советского руководства и всей КПСС и т. д. и т. п. За 70 лет не раз были упущены и шансы на либерализацию и гуманизацию советского строя: я имею в виду поспешное и необоснованное свертывание нэпа на рубеже 1920 — 1930-х гг., «окостенение» сталинского режима после великой победы во Второй мировой войне, причудливые зигзаги хрущевской «оттепели», брежневский «застой», явное запоздание с «перестройкой» 1980-х гг. и ее бездарный завершающий этап, поставивший жирную точку в истории «развитого социализма». Налицо была цепь грубых ошибок и прямых преступлений власти в отношении собственного народа, которым нет и не может быть оправдания. Слишком дорогую цену пришлось заплатить советским людям и за такие успехи социалистического строительства, как индустриализация страны и культурная революция, великая победа над фашизмом в годы Второй мировой войны, прорыв в космос и т. д. Вопрос заключается, однако, в том, виновата ли во всем этом социалистическая идея как таковая или те специфические методы, которыми ее пытались претворить в жизнь в СССР и других странах так называемого «социалистического лагеря»? Думается, что ответ на этот вопрос всемирная история еще не дала и говорить о смерти социалистической идеи — не в ее специфически советской, а в подлинно демократической и гуманистической интерпретации — как мне представляется, пока рано.
В. П. БУЛДАКОВ, доктор исторических наук.
Строго говоря, выносить «решающие» оценки Октябрьской революции еще рано. То, что мы сегодня имеем, это чисто коммеморативная историография, то есть набор эмоциональных, включая истеричные, реакций на «юбилейную» дату с позиций современности. Все это не ново. Опыт историографии Французской революции показывает, что все коммеративные акции (50– , 100– , 150– и, наконец, 200–летие) даже в среде выдающихся профессиональных историков вызывали неоднозначные реакции. Жюль Мишле стремился поддержать революционную традицию, воскрешая ее героический «дух». Альфонс Олар использовал имидж революции для укрепления гражданской лояльности граждан Третьей республики, что к 1889 г. стало весьма актуально. Жорж Лефевр, автор самой яркой книги о Французской революции — «Восемьдесят девятый», доказывал, что ее идеи имеют непреходящее значение для демократии — тогда надо было противостоять нацизму.
Лишь к 200-летию Французской революции ситуация кардинально изменилась. Франсуа Фюре взялся разорвать «порочный круг» коммеративной историографии, сосредоточив усилия на деконструкции революционного мифа. С чем это было связано — завершением эпохи Просвещения, постмодернистским поветрием, принципиально новой идеологемой общеевропейского единства — сказать трудно. Однако, несомненно, что идеи нации, противостоящей всякой тирании, как главный идентификат французов, отнюдь не утратила своего значения.
О вреде «презентизма» («осовременивания») в исторических исследованиях говорилось не раз. По словам Эрика Хобсбаума, те, кто судят о прошлом с позиций «своего» времени, «никогда не смогут понять ни самого прошлого, ни его воздействия на настоящее». Тем не менее, мы к своей революции предъявляем поистине непомерный счет именно с позиций современности. При этом критерий тот же, что и в 1917 году: если революция (как и власть) что-то дает, то она хороша. Если нет… то она вовсе и не революция. Происходит экстраполяция болезненного опыта современности в прошлое. В принципе, это психология людей, загипнотизированных собственной историей и властью, которая всегда склонна кивать на дурных предшественников.
Не приходится пояснять, что у нас страсти продолжают кипеть именно благодаря тому, что в создании контрреволюционного (как некогда революционного) мифа монопольное положение занимает власть. А наши люди, включая историков, противостоять «мнению сверху» не умеют. Совершенно очевидно, что нынешним правителям никакая революция — даже в виртуальном виде — не нужна. «Не нужна» она и народу, поскольку, как оказалось, ничего ему «не дала». Мы реагируем на выдающееся событие, не желая понять ни его реального, ни символического значения, не по законам большого исторического времени, а по законам исторической памяти, которая основательно насиловалась и насилуется властью. Отсюда еще одна характерная закономерность: нынешнее число «версий» о революции обратно пропорционально объему конкретных знаний о ней. Ныне любой самодеятельный «историк по призванию» ничуть не стесняется высказать любую нелепость о революции и ее вождях.
Наш сегодняшний взгляд на революцию — это попытка взгляда «из квазидемократии». Это заведомо «болезненный» квазиугол зрения. Спрашивается: с какой такой стати мы пытаемся навязывать прошлому свою болезненную тоску по исторически не существующей «норме»? Более десятка лет мне приходится убеждать, что на революцию, как и на всю нашу историю, надо смотреть с точки зрения ее имманентного кризисного течения, а не мифического эволюционного «идеала». Я давно предлагал сравнивать революцию 17-го года с событиями ХVII века, исходя из понятия системного кризиса империи, связанного с «вакуумом власти». Это синергетический (а не линейный) процесс самосохранения сложноорганизованной имперской системы — в результате революции она просто «перекрасилась». То, что кажется цивилизационной катастрофой, на деле может быть проявлением естественного развития цивилизации. Некоторые современные отечественные философы и социологи эту мысль (а она в той или иной форме не раз высказывалась в 1918-1920 гг. противниками большевиков) уже освоили. Но большинство современных историков шарахаются от нее, как черт от ладана. К «широкому» и непредвзятому взгляду на революцию они просто не готовы.
Наиболее продуктивно, по-моему, было бы рассматривать революцию и ее последствия, как попытку материализации мировой утопии, которая соединилась с российской «этатистски-бунтарской» традицией. Через мировую войну в России создались условия, которые Билл Розенберг удачно назвал «трагедией соперничающих невозможностей»: кто-то мечтал о «чистой» демократии, кто-то о «республике с хорошим царем». При этом совершенно непомерные надежды возлагались на Учредительное собрание. Однако разгул охлократии породил псевдосоциалистическую вакханалию в умах масс, которая и стала «движущей силой» синергетического процесса.
Историю революции (как и историю вообще) не следует прочитывать буквально: если в Учредительном собрании абсолютно преобладали социалисты, то из этого вовсе не следует, что народ сделал «социалистический выбор».
В то время, когда большевики (и не только они) мечтали о мировой революции, массы думали совсем о другом: рабочие хотели установить «свои» порядки на предприятиях; крестьяне требовали «Земли, земли, земли!»; народы России, ощутившие себя «самыми угнетенными», мечтали изолироваться от имперского центра. Но главное — массы хотели покончить с войной до такой степени, что готовы были поддержать любую власть, обещавшую мир. Получается, что ситуативные лозунги невероятным образом сливались с «новейшей» доктриной (она же была своего рода хилиастической утопией) — возникла исторически абсурдная ситуация, обусловившая авторитарную круговерть под покровом метапрогрессистского идеала.
Я еще раз повторяю, что весь период существования СССР можно рассматривать как попытку реализации, материализации грандиозной социалистической утопии, под покровом которой скрывались весьма прозаические устремления масс. Если обратиться к массовым лозунгам 1917 г.: Октября — «Мира!», «Хлеба!», «Долой помещиков и буржуазию!», «Земля — крестьянам!», «Фабрики рабочим!», «Свободу угнетенным народам!» (все они заслонили собой лозунг Учредительного собрания), то придется признать, что в них отсутствует, в отличие от революционной Франции, идея нации, противостоящей государственной тирании. В таких условиях идея конституанты элиминируется в принципе.
Кстати, во французской революции всякого рода утопий, в том числе и коммунистических, было предостаточно. Но историческая память французов более бережно обошлась со своей революцией. Причина не только в том, что среди лозунгов французской революции рациональные элементы были куда более заметны. Во Франции укоренилось мнение, что революцию совершил сам народ (хотя это далеко не так). Напротив, 17-й год в России — это ситуация созерцания непонятных судорог распадающейся власти со стороны основной массы низов, что и позволило возобладать утопистам, подпираемых охлосом. Естественно, после отрезвления, наступившего после соития «немца Маркса и русской сивухи» (выражение Петра Струве), в сухом остатке не окажется ничего, кроме репрессивной «идеобюрократической» государственности.
Конечно, русская революция вдохновлялась идеей социальной справедливости, понимаемой крайне наивно. «Идея справедливости — самая жестокая и самая цепкая из всех идей, овладевавших когда-либо человеческим мозгом... Пароксизм идеи справедливости, это — безумие революций», — писал еще в 1906 г. Максимилиан Волошин. На протяжении 1917 г. власть не столько свергали, как тестировали на справедливость — она сама неуклонно подтверждала свою несостоятельность в качестве «праведной» в глазах народа. Это одна из причин того, что идея Учредительного собрания, которое могло лишь санкционировать то, чего массы фактически уже добились, причем независимо от большевиков (8-часовой рабочий день, переход земли в руки крестьянских комитетов, федерализация страны), теряла свою привлекательность. А тем, кто теряет веру в справедливость, рано или поздно придется уверовать в насилие.
Стоит обратить особое внимание на тот момент, который отметил Станислав Васильевич Тютюкин. Русскую революцию можно рассматривать как радикальную реакцию идей Просвещения на «официальную» веру (пусть не в столь острой форме как во Франции или, скажем, в Мексике). И надо прямо признать, что Русская православная церковь повела себя не очень–то адекватно ситуации. Несмотря на то, что массовые съезды духовенства и мирян настаивали на «демократизации» церкви на приходском уровне, епископат делал ставку только на восстановление патриаршества. Вероятно, предполагалось, что, если оно будет воссоздано, к нему сама собой приложится государственность. Церковь думала о власти, охраняющей ее, а не о пастве. В результате на выборах в Учредительное собрание так называемые «обывательские» списки «духовенства и мирян» набрали ничтожнейшее количество голосов — голосовали за партии, точнее за их лозунги. Вероятно, если бы с амвонов прозвучало: «Либо вера, либо антихрист», ситуация была бы несколько иной. Этого не случилось — магия «вертикали власти» возникла не в наше время. Реакция церкви непосредственно на октябрьский переворот также была (вопреки нынешним представлениям) крайне невыразительной.
Несколько слов о перевороте. Сами большевики, как известно, довольно долго употребляли этот термин — «октябрьский переворот». А у нас сейчас слова «революция» и «переворот» вдруг обрели некую ценностную коннотацию, хотя этимологически разницы между ними нет. Революция — это хорошо, потому что она вроде бы что–то может дать, переворот — это плохо, потому что он рождает ничего, кроме новой — непременно дурной — власти. Но на самом деле любая революция вообще ничего «не дает» в обыденном, материальном смысле слова — она лишь частично удовлетворяет чувство мести. «Великая революция является психологическим кризисом идеи справедливости, которая в этой форме неразрывно связана с понятием мести» (тот же Волошин). Наша революция не могла дать массам ничего насущно-материального по определению, ибо хаос системного кризиса империи, в который она была вписана, ничего материального не производил. Он давал лишь кратковременную иллюзию свободы и возможность пограбить под красными знаменами. Кстати, Ленин очень хорошо это понимал: революцию делают не в белых перчатках, а опираясь на звереющие массы, дикие толпы, охлос — им ничего не остается, как пойти за вождями, готовыми перевернуть весь мир.
Кстати большевики вовсе не торопились с переворотом. Даже в начале октября большинству их функционеров он казался «рискованной авантюрой». Но с другой стороны, они подталкивали к нему массы — прежде всего через Советы. Ленин, впрочем, готов был использовать и фабзавкомы — точнее рабочих-красногвардейцев. Троцкий особой пристрастие питал к «красе и гордости революции» — матросам, среди которых была масса «природных» анархистов. И, в конце концов, большевикам пришлось опереться главным образом на солдат тыловых гарнизонов, «летучие отряды» матросов, не говоря уже об откровенных шкурниках и уголовниках.
На фоне этих толп и полурассеявшихся надежд на Учредительное собрание версия о «хорошо подготовленном заговоре» выглядит жалкой фантазией дезабильных существ. Более нелепо подготавливаемого «заговора», «переворота» трудно себе вообразить. В большевистских верхах царило смятение. Ленин считал, что власть нужно брать до съезда Советов, Троцкий — после соответствующего решения съезда. Каменев и Зиновьев готовы были ждать до Учредительного собрания. Основная часть делегатов съезда вообще плохо понимала что происходит — поворотный момент или очередной кризис власти. Между тем «революционный авангард» был практически неуправляем — петроградские рабочие (за исключением Красной гвардии) были поглощены внутризаводскими проблемами; солдаты то и дело объявляли «нейтралитет». Большевиков, тем не менее, возносил к власти сам стихийный ход событий, в основе которого лежали людские страхи (и перед мифической контрреволюцией, и перед реальным голодом). Хотелось хотя бы минимума определенности, позволяющей более или менее осмысленно выстраивать линию политического поведения. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца, как говорят французы.
Что касается Учредительного собрания, то здесь у большевиков не было ясности даже после выборов. Они все-таки рассчитывали (короткое время после переворота), что вместе с левыми эсерами смогут составить в нем большинство или же на их сторону переметнется значительная часть «умеренных» социалистов. Говорить о том, что они пошли на переворот из боязни невыгодных для них результатов выборов — нонсенс. Они подталкивали массы, массы подталкивали их — таков естественный ход развития революции, на который большевики возлагали преувеличенные надежды. Конечно, тот, кто не понимает теории динамического хаоса, склонен искать «заговорщиков» у себя под кроватью. Любые конспирологические теории революции, на мой взгляд, могут удовлетворить людей в силу недостаточного развития путающихся даже в простейших причинно-следственных связях. Это не новое явление: примитивное сознание всегда переносит свой собственный, крайне ограниченный, обыденный опыт и на вершины власти, и в совершенно иную культурно-историческую среду, и в иную эпоху, и вообще куда угодно.
Рассуждая сегодня об Октябрьской революции, надо учитывать еще один момент. Не нам выносить «окончательные» суждения о революции, как и о прошлом в целом — для этого мы слишком «мелки». Скорее история — история революции — судит нас. И не надо взывать к морали — мораль формируется эпохой, которую надо понять. А между тем, в связи с иными нынешними «вердиктами», можно не только разглядеть нравственное нутро того или иного автора, но и поставить ему психиатрический диагноз. Какие мерки мы прилагает к великим событиям прошлого — того мы и стоим.
Б. С. ИЛИЗАРОВ, доктор исторических наук.
Я скажу, что мне ближе всего позиция Станислава Васильевича, но не на все 100 процентов, а процентов на 80. Мне кажется, есть вещи, которые сегодня почти не затрагивались, хотелось бы на них остановиться более подробно.
Прежде всего, мы обошли вот какой момент. Это не моя идея. Если не ошибаюсь, она очень хорошо была проработана еще Бердяевым, но не только им. Дело в том, что наша революция, Октябрь, была подготовлена очень длительной традицией. Эта традиция шла еще от православия, она шла во многом и от самодержавия, как это ни парадоксально. Я имею в виду идею миссианизма (не путать с мессианизмом), потому что на самом-то деле вся Октябрьская революция и сопутствовавшая ей Февральская революция (хотя в меньшей степени, чем Октябрьская) — это, конечно, идея миссианизма. Мессианизм — это тяжкая доля, которая накладывается свыше на человека или на весь народ независимо от их желания и воли. Миссианизм — это присваивание себе особой роли в обществе, если иметь в виду отдельного человека, или в мире, — если речь идет о народе. Идея миссианизма связана с тем, что вот мы — избранный народ, мы — исключительное общество и у нас есть особая миссия. Мы, наконец-то, несем человечеству, вот это! А дальше можно подставить на «это» все, что хотите. Можно поставить идею православия, как исключительную, незамутненную веру, можно выдвинуть идею практического коммунизма, идею «мистического имперского духа», можно привнести идею «народного» царя или вождя или идею особенной «суверенной» демократии и т. д. Я имею в виду то, что идея миссианства — она, повторяю, имеет очень давнюю традицию в нашем народе и в обществе. Она в значительной степени проявилась и в Октябрьской революции, и я думаю, что в этом одна из причин того, что революция была поддержана большинством, причем большинством темным, малограмотным, не развитым, но, тем не менее, подавляющим большинством народа. Люди разных национальностей и конфессий, как дети, поверили, почти с религиозным экстазом, что мы первыми сумеем построить гармонизированное во всех отношениях общественное устройство — без эксплуатации, без насилия, без горя, без нищеты и т. д. И эта вера превратила незначительное событие, мелкий путч (Октябрь) в событие всемирно-исторического масштаба. Вера в миссианскую идею, т. е. гордыня, помогла большевикам мобилизовать народные массы.
И еще одну проблему я хочу сформулировать. Надо отделить революцию 17-го года, гражданскую войну от последующих годов сталинской власти. Я считаю, что это совершенно разные эпохи, в которых тон задавали разные вожди, ставившие разные цели. Иначе говоря, Октябрьская революция — это одно, гражданская война — это другое, а вот все, что связано со сталинизмом, — это уже третье. Да, эпохи взаимосвязаны, с этим согласен, но каждая такая историческая развилка всегда как бы «смахивает» с исторической сцены одних людей и выдвигают новых. Очень похожие процессы протекали в конце 1980-90-х годах. Такие эпохи легко выделить, и они действительно заметно различаются.
Октябрьская революция — это исключительное событие, это эпоха особого романтизма, потому что многие из тех, кто участвовал в ней, это люди, ярко выраженного романтического склада, которые шли на огромный риск, шли на штурм, что называется, с открытым забралом. Можно по-разному оценивать то, какими методами они действовали, тем не менее, они шли на насильственный захват власти не только и не столько ради того, чтобы этой властью над людьми потом упиваться и с ее помощью хорошо нажиться. Они совершали революцию для того, чтобы действительно осчастливить свой народ и народы всего мира.
В этом плане опять-таки идея миссианизма, идея романтического подъема заметна в той эпохе до сих пор, и никуда от этого не денешься. Люди революции в большинстве своем наивны, жестоки, но и очень искренни. Нужно отметить, что тогда многие понимали, что революция это еще и попытка осуществления социального эксперимента, и в этом эксперименте сознательно участвовали те, кого называют интеллектуалами. Да, они шли на социальный эксперимент. Они не только отчаянные романтики, они еще, если хотите, социальные инженеры, они пытаются, взяв на себя роль социальных инженеров, сконструировать принципиально новое общество. Я сейчас не даю оценки, насколько это был удачный эксперимент, гуманный или садистский, но, по сути, это был невиданный социальный эксперимент, т. е. эксперимент над социумом в полном смысле этого слова.
Я хочу подчеркнуть, что в основе этого эксперимента лежали замечательные и очень гуманные идеи, они были воистину общечеловеческими, и они были очень близки российскому обществу, потому что в основе лежали идеи социальной справедливости. Простите за вопрос, но кто откажется от таких идей? Идеи социальной справедливости разрабатывались в рамках одного только христианства два тысячелетия, а последние лет 500 Европа, по существу, живет именно этими идеями. Во всем мире, не только утописты и прожектеры, но практически все государства, так или иначе, вносили свой положительный или отрицательный опыт в развитие этой самой идеи справедливого, гармонизированного общества. В ХХ в. она получила новые формы и модели. Фашистские и нацистские государства так же пытались инженерно построить общества управляемые отборными «арийцами». Идея интернационализма тоже древнейшая, потому что все мировые религии, так или иначе, интернациональны и призывают к всеединству, но через свою веру.
И последнее. Надо разделять цели и результаты. У большевиков-революционеров были одни цели, а результаты они получили совсем другие, каких сами не ожидали. Цели были замечательные, результат страшен. В результате родился «национал-большевизм», т. е. сталинизм. Герой революции и организатор побед в Гражданской войне Л. Троцкий именно так охарактеризовал порожденный «его» Октябрем строй.
В. А. ШЕСТАКОВ, доктор исторических наук.
Мне вопрос о целях большевиков представляется не столь очевидным. Если для реализации, достижения поставленной цели, пусть самой возвышенной, самой благородной, самой гуманной нет соответствующего инструментария — цель ложная, тупиковая, поскольку не достижима на данном историческом этапе. Опыт России в ХХ веке об этом свидетельствует более чем убедительно.
На мой взгляд, более важным для всего послереволюционного развития России, судьбы советской системы, а меня интересует именно этот аспект проблемы, представляется вопрос о том, насколько неизбежен был революционный взрыв. Произошла ли революция 1917 г. закономерно или она спровоцирована тяготами мировой войны.
С позиций нашего сегодняшнего знания, очевидно, что к началу ХХ века многие ограничители развития страны были уже сняты, предпринимательские слои все больше брали модернизацию в свои руки, государство частично уходило из этой сферы, меньше ориентируясь на западный капитал. Однако последовательный переход к конституционной монархии не был осуществлен, программа Столыпина была реализована лишь в малой степени, и т. д. Поэтому, несмотря на то, что есть достаточно много аргументов пользу того, что революция 1917 г. есть результат неблагоприятного стечения обстоятельств, я разделяю мнение тех исследователей, которые видят причину неизбежности революционного взрыва в ограниченности предшествующей революции модернизации.
Действительно начало Первой мировой войны «обрубило» долгосрочную перспективу модернизации. Но никто не будет отрицать факт критической концентрации групп противоречий провоцирующих социальный взрыв в канун войны, идущих как от патриархального российского наследия, так и противоречий модернизируемой части экономики. Иными словами успешное развитие России, ее дальнейшая модернизация становились зависимыми от многих превходящих обстоятельств. Под этим углом зрения — революция в России не случайна. Не война, так что-то иное спровоцировало бы социальный взрыв.
Другое дело — все ли ее этапы в равной мере неизбежны и закономерны. Станислав Васильевич Тютюкин верно сказал, что следует рассматривать революцию 1917 г. как единый процесс, но обошел вниманием вопрос о месте и сущности основных его этапов. Давайте, по аналогии с Великой французской революцией, знавшей периоды подъема и упадка, определимся: Октябрь 1917 г. — это восходящий или нисходящий поток в революции. Можно ли его считать Термидором, или даже контрреволюцией относительно Февраля?
Я считаю, что у нас нет основания считать Октябрь 1917 г. — более высоким и закономерным этапом Единой Российской революции. Если посмотреть в цивилизационном плане, то Февраль довершает процесс начатый революцией 1905-1907 гг. Как бы мы сегодня критически не оценивали деятелей Февраля 1917 г., как бы мы не критиковали их за нерешительность, ошибки и глупости, мы должны признать, что Февраль хотя бы в теории снял главный ограничитель предыдущего цивилизационного развития Россия. Я имею в виду отсутствие свободы. И многое другое, что связано исторически с этим понятием: права человека и гражданина, легитимная частная собственность, правовое государство, рынок, свобода слова, свобода предпринимательства. Именно Февраль — символ возвращения России на общецивилизационный, общемировой путь развития страны.
Что дал Октябрь 1917 г., каков его вклад в цивилизационное развитие, каково его место? Большевики необходимость цивилизационного скачка России трансформируют в формационное русло. Большевики не оригинальны, и в этом была их сила. Их позиция, с одной стороны, близка полупатриархальным слоям населения, не принимавшим ценностей индивидуалистического общества. С другой стороны платформа большевиков, чего нельзя отрицать, отражала и определенные пусть и тупиковые достижения общественной мысли того времени. Хорошо известно, что ХХ век начинался под знаком социализма, люди жаждали более справедливого общества, о необходимости планирования рассуждали и в предпринимательских и научных кругах (в том числе Г. Форд).
То, что большевики хотели «как лучше», очевидный факт. Но очевидно и другое. Проблема равенства может быть разрешена лишь исторически, шаг за шагом. В известном смысле она вечна. Сделав на ней акцент в своих программных документах и лозунгах, большевики преследовали вполне прагматическую цель захвата и удержания власти. Поэтому Октябрьский переворот — шаг назад. Большевистская диктатура уничтожила возможность движения в сторону демократии. Октябрь 1917 г.- прежде всего, означал разрыв с Февралем по этой линии. В этом смысле прав покойный А. Н. Яковлев, считая Октябрьский переворот контрреволюцией, положившей начало созданию тоталитарного государства. Не находя для себя в рамках либерально-парламентского эволюционного пути достойной властной ниши, большевики явочным порядком, насильственно сместили кабинет министров, самозванно объявили себя народным правительством. Зачем требовалось вооруженное восстание, с которым так торопил Ленин? Ведь был назначен на 25 октября II Всероссийский съезд. Принимая в расчет, что уже в сентябре 1917 г.126 местных Советов высказывались за передачу им всей полноты власти, на этом съезде можно было легализовать переход власти к советам мирным путем. «Ждать съезда — это идиотизм , — уверял Ленин, ибо съезд ничего не даст, ничего не может дать». Почему? Потому что, очевидно даже имея перевес в ряде Советов большевики не могли рассчитывать, что съезд поручит им формирование правительства. Совершенствовать демократию, бороться за общественный прогресс легально, парламентскими методами — можно было в условиях абсолютной свободы уже с Февраля. Для чего же потребовалось раскачивание государственной лодки? — очевиден ответ: ради узурпации власти. Правда, выиграв тактически, большевики проиграли стратегически, оказавшись по существу заложниками прежних решений и лозунгов. Ибо собственно созиданием социализма и тем более коммунизма большевики не занимались никогда. В лучшем случае — коммунизм — все годы советской власти ничем не подкрепленный идеал. В худшем — к которому собственно и приближалась реальность — это вечный котлован. Поэтому я глубоко убежден в том, что в разрушении советской системы Октябрь 1917 г-первая ступень. Советская система погибла от несвободы. Только в условиях свободы мысли и действия возможны реальные корректировки курса социально-политического развития страны. Если бы Октябрь наследовал Февралю в этом плане, то возможно судьба советского эксперимента была бы иной. Уже к моменту октябрьского переворота научное видение мира изменилось, теоретики революции уже не считала диктатуру пролетариата последним словом марксистской мысли. А главное, они отодвигали крах капитализма в далекое будущее, да и сам марксизм уже не считали универсальной системой взглядов.
Иными словами приход к власти сил с ленинским пониманием момента, с ленинскими лозунгами не мог не обернуться тоталитаризмом. С диктатурой партии, т. е. вождей. Со страной обреченной на политико-экономическую изоляцию. Где граждан будут пугать и кормить обещаниями. Где страна военный лагерь.
Мы смотрим на Октябрь 1917 г. не из идеального демократического мира, а из очередного развала после очередной революции. Очевидно, прав Андрей Константинович предлагая больше внимания уделить изучению революционной ментальности. Но вот вопрос: что это такое? На наших глазах произошла революция. Но многие ли ее идентифицируют как революцию? Ни в одном учебнике, за редким исключением, события августа 1991 года не рассматриваются как революция, речь обычно идет о глубоких реформах. Хотя, на мой взгляд, это революция, и она имеет многие психологические черты, присущие и другим революциям, в том числе революции 1917-го года.
В заключение еще раз подчеркну. Хорошо если бы революционный процесс закончился где-нибудь в августе 1917-го года, потому что и большевики, в том числе и Ленин, имели возможность в условиях свободы бороться за демократию, за общественный прогресс, даже за ту модель, которую они в своей программе обозначили. Возможно, они могли бы в условиях свободы и модель избрать другую, а не навязывать ту, которая засела в голове Владимира Ильича и его окружения.
М. Г. ВАНДАЛКОВСКАЯ, доктор исторических наук.
На нашем «круглом столе» было высказано много интересных суждений, собственных мнений по поводу Октября и его места; приводились высказывания историков и современников тех событий. Я хотела бы привести мнения современников-эмигрантов, которые много внимания уделяли проблеме революции в многообразии ее различных сторон. Одно из первых мест в их ряду занимали П. Н. Милюков и М. В. Вишняк.
Прежде всего, в их трудах обсуждался вопрос о неизбежности революции. Милюков, например, неизбежность революции определял наличием нескольких признаков: ощущение массой потребностей политических и социальных преобразований, противостояние власти мирному разрешению назревших задач, потеря властью способности принудительно действовать. К этому Милюков добавлял психологический момент — боязнь власти, страх перед народом.
Речь шла и о национальном лице революции. Милюков определял его отсутствием прочного сцепления между социальными слоями населения, анархизмом масс, максимализмом революционной интеллигенции, отсутствием сцепления между Центром и национальными территориями.
Вообще революционный процесс как таковой историки-эмигранты рассматривали как длительный процесс. Одни из них начинали этот процесс с 1902 года, с Союза «Освобождение», другие — непосредственно с революции 1905 года. Но 1905 год они не включали непосредственно в революцию, которая связана была с Февралем и с Октябрем.
В этой связи мне хотелось бы отметить, что эмигрантская историография большое место уделяла социально–психологическим факторам, менталитету русского народа, особенностям национального характера. Это относилось как к оценке поведения масс, так и вождей революции. Знаменательны данная В. М. Черновым характеристика В. И. Ленина о сочетании в нем воли и ума и их дисгармонии или оценка Милюковым деятельности Сталина, его интеллекта, гипертрофированного самолюбия, способности заимствовать сильные стороны своих противников. Интересно наблюдение Вишняка о человеческой природе, меняющейся под влиянием ситуации. Он называл политико-психологическим законом изменение поведения революционеров, занявших властные посты: они переставали быть революционерами. Советская историография пренебрегала психологическими факторами в анализе исторических явлений и личностей.
Большое внимание уделялось проблеме соотношения Февраля и Октября. Много писали об этом Вишняк и Милюков, рассматривая эти революции как качественно различные явления. Если Февраль покончил с вековым противостоянием власти и народа и способствовал образованию нации, то Октябрь исходил из партийной и классовой диктатуры. Вишняк считал, что, преследуя интересы пролетариата, большевики исходили не из идеи сплочения, а из идеи разделения нации и что диктатура пролетариата фактически отвергала и отрицала все другие социальные слои населения. Попытка представить Февраль как преддверие или пролог Октября неправомочна и необоснованна.
В этой связи закономерен особый интерес к истории и сущности большевизма. Вишняк видел в большевизме антиисторический замысел вместить в рамки национальной революции мировые и сверхнациональные задачи; страна и народ для большевиков — средство и таран для мировой революции. Милюков рассматривал большевизм как соединенный результат действия ряда факторов: самобытного анархизма масс, находящихся в состоянии пассивного подчинения, упадка влияния правящего класса, максимализма интеллигенции и отсутствия у нее политического опыта и сепаратизма национальных меньшинств. Примечательно, что, заглядывая в будущее, эмигрантские авторы не связывали падение большевизма с его исчезновением, а полагали, что большевизм, ставший образом мышления и отличающийся особым качеством догматизма и деспотизма, надолго сохранится в России.
Эмигрантская историография выступала против отождествления Октября с Великой французской революцией, большевиков с якобинцами. Якобинцы, в отличие от большевиков, были верны идее парламента и всеобщего избирательного права, большевики же ориентировались на диктатуру пролетариата. Общность этих революций Милюков видел в одном — в психологии масс.
Я хотела бы еще остановиться на вопросе об Учредительном собрании, в дополнение к тому, о чем уже говорилось. Разгон Учредительного собрания, по мнению Милюкова и Вишняка, состоявшего членом Комиссии по выборам в Учредительное собрание, означал захват власти большевиками, которые выдавали себя сторонниками его созыва, но в результате проявили «политический цинизм», способствующий углублению гражданской войны. Разгоном Учредительного собрания был сорвано направление развития страны в сторону западного парламентаризма. Так называемая «пятихвостка» — всеобщее, равное, тайное, прямое голосование и пропорциональное представительство от мест, — была уничтожена разгоном собрания, на смену пришли Советы. Это продолжалось до принятия Конституции 1936 г., в которой провозглашалось всеобщее, равное, тайное голосование; другой вопрос — как это было реализовано.
К сожалению, когда мы рассуждаем об Октябре у нас превалируют эмоциональные оценки. Я думаю, что эмигрантскую литературу, которая изобилует материалом по всем этим вопросам, надо знать. Можно соглашаться или не соглашаться с ней, но она помогает осмыслить широкий круг проблем, связанных с Октябрьской революцией.
В. М. ЛАВРОВ
Учитывая фактор времени, я думаю, нам имеет смысл только еще один раз всех заслушать и на этом завершить.
Октябрьская социалистическая революция показала всему миру, показала буржуазии, что может произойти, если не проводить назревших преобразований в интересах всего народа, не повышать его жизненный уровень. Западным политическим лидерам и предпринимателям пришлось пойти навстречу народу, в том числе рабочим. И ирония истории в том, что от Октября выиграли не рабочие в России, а рабочие на Западе.
Социалистический эксперимент с Россией показал совершенно очевидно, что строй без частной собственности обречен. Поэтому возврат России к социализму не возможен или равнозначен самоубийству. Одновременно в такой огромной стране и при таких внешних угрозах требуется значительный государственный сектор экономики. Насколько значительный, по каким направлениям — это сфера практических расчетов и управленческого поиска. Причем магистральное направление третьего тысячелетия — научные разработки, в том числе исторические.
Большие победы и поражения являются результатом продолжительных объективных процессов, а не «козней» Ленина или Троцкого, Горбачева или Ельцина. Одновременно бывают моменты и периоды, когда не исключены различные варианты развития событий, когда соотношение сил колеблется, изменчиво. Вот тогда политические лидеры способны перетянуть чашу весов истории. Тогда огромное значение приобретают их личные, человеческие черты и способности.
И я не вижу вождя, который бы превосходил Ленина по уверенности в себе, по готовности отречься от всего и перешагнуть через все ради достижения своей цели, по исключительной изворотливости и способности просочиться. Потому Достоевский так не нравился Владимиру Ильичу.
Кто, кроме Ленина, мог создать такую партию? Никто, остальные были наголову ниже, не исключая Льва Троцкого. А без большевистской партии Октябрь как социалистическая революция победить не мог.
Такова роль и ответственность личности в русской истории!
Считаю должным поставить и такой деликатный вопрос. Собственно почему принято считать, что парламент, избираемый всеобщим, равным и прямым голосованием (Учредительное собрание) предпочтительнее той Государственной Думы с известными ограничениями при выборах? Так принято считать сейчас и так многие образованные люди считали тогда под западным влиянием, не принимая во внимание уровень культуры нашего народа и степень его способности принимать самостоятельные, осознанные и ответственные решения. А какова эта степень, если подавляющее большинство народа даже читать не умело? Отсюда получается, что та Дума в большей степени соответствовала культуре народа, его готовности к демократии, чем парламент по западному образцу — Учредительное собрание.
Народ толком не разбирался в партиях, программах и т. п. Крестьянское большинство избирателей проголосовало за образ эсеров как крестьянской партии и одновременно проявило осторожность, свойственную землепашцам на местах. Поэтому последние вынесли вотум недоверия крайним революционерам, насильственно захватившим власть в столице.
Крестьянская Россия смекнула, что надежнее получить землю законно, от законного и всенародного Всероссийского Учредительного собрания. И историческая правота осталась за теми мужиками и бабами.
А. Н. МЕДУШЕВСКИЙ
Я также начну с вопроса о вариативности в развитии революции. Полагаю, что мы, действительно, находимся сейчас на той стадии изучения революционных процессов, когда очень важно реконструировать, каковы были альтернативные модели политического устройства, проанализировать эти модели, в том числе в сравнительной перспективе, и понять, почему вектор был направлен в одну сторону, а не в другую. И с этих позиций отмечу, что в переходный период существовали различные концепции отношений между Учредительным собранием и той властью, которая возникла в результате октябрьского переворота.
Одна из этих моделей — это сохранение и комбинирование двух центров конституирующей власти — Учредительного собрания и Советов. Некоторые полагали в то время, что возможна конструкция власти в виде двухпалатного парламента. Вторая конструкция — это возможность сохранения определенного порядка отношений между Учредительным собранием и Советом народных комиссаров. Кстати, тот факт, что большевики все-таки пошли на созыв Учредительного собрания, хотя могли этого не делать, говорит о том, что эта конструкция имела, может быть, очень слабые, но все-таки шансы на реализацию. И третья конструкция — та, которая реализовалась, — это просто силовой разгон Учредительного собрания, когда новое правительство оказывалось подвешенным в воздухе, теряло всякую социальную опору, и ему ничего другого не оставалось, как применять массовый террор, то есть использовать вооруженные силы для установления собственной гегемонии.
Возникает вопрос: в чем причина выбора именно этого вектора? Здесь уже называли некоторые причины — такие, например, как количество голосов, которые получили большевики. Они, очевидно, рассчитывали на большее количество голосов и допускали коалицию с левыми эсерами. Это не состоялось. Второй момент (может быть, субъективный) — это готовность партий вообще и большевиков в частности идти на создание коалиционных правительств. Очевидно, что такой готовности в политической культуре России того времени не было или она была слаба, но все-таки она присутствовала как возможный выбор. Здесь говорили о том, что в переходный период создавались квазипредставительные учреждения в виде Государственного совещания, Демократического совещания, Предпарламента. Это все-таки реальные институты поиска консенсуса, и в этом смысле Учредительное собрание завершает цепочку таких институтов, которые в других странах приводили к решению вопросов именно путем консенсуса. Наконец, третий момент — это субъективный выбор в определенных политических условиях. Этот выбор диктовался, конечно, не только доктринальными соображениями, но скорее расстановкой политических сил. Если мы обратимся к фактам, то увидим, что выбор большевиков (и в частности выбор Ленина) не был столь однозначным. На разных этапах революции представлены определенные колебания в их линии. Эти колебания были связаны с тем, что большевики сами считали, что они не продержатся больше недели в первый момент переворота. Отсюда актуальность идеи созыва Учредительного собрания. Далее, это раскол по существу внутри партии большевиков, поскольку существовали разные направления и поиск различных векторов, в том числе и в отношении Учредительного собрания. И, наконец, последнее: не ясна была ситуация с армией (насколько она поддержит большевиков), а также ситуация с внешнеполитическими договоренностями и их выполнением (отказ от войны был эффектным политическим ходом во внутренней, но не во внешней политике, поскольку вел к полной политической изоляции страны). Все это приводило к тому, что созыв Учредительного собрания мог рассматриваться как угроза большевизму, но мог рассматриваться и как попытка оттянуть окончательное крушение большевистского правительства. Источники хорошо показывают, что в условиях крайней нестабильности политической системы и колебаний ведущих политических игроков решающее значение, конечно, имела позиция Ленина и Троцкого, в этом смысле личностный фактор был очень важен при определении вектора.
Также, конечно, следует говорить об альтернативности и в контексте соотношения теории и практики. Здесь уже возникла небольшая дискуссия о том, чем руководствовались большевики — утопическими теориями или реальной практикой. Надо сказать, что эта дискуссия была и в старой западной литературе, причем она охватывала более длительную перспективу и касалась оценки Апрельских тезисов. Проблема формулируется следующим образом: почему Ленин менял свою позицию в отношении Учредительного собрания, сначала выступая за него, потом резко против? Объяснялось ли это колебаниями большевиков, как думал, например, Эдвард Карр, который полагал, что здесь имела место спонтанная импровизация, или это действительно был стратегический план, который последовательно реализовывался?
Я думаю, что верно второе, и те действия, которые здесь определялись как тактические колебания большевиков (что, конечно, имело место), не позволяют все-таки объяснить логику действий, в результате которой одни институты сознательно подменялись другими. Я полагаю, что разгон Учредительного собрания очень четко вписывается в концепцию Апрельских тезисов и по существу представляет собой очень важный элемент реализации замысла — установления большевистской диктатуры, а, в конечном счете, выбора неправового развития, неправового вектора, его доминирования над правовым вектором.
Почему я так думаю? Потому, что многие действия большевиков нельзя объяснить тактическими колебаниями. Ведь сначала мы видим, что большевики пошли на созыв Учредительного собрания уже после переворота. Это постановление СНК от 27 октября 1917 г., когда они допустили созыв Учредительного собрания. Но уже вскоре можно констатировать применение целого набора тактических мер, которые, в сущности, блокировали идею Учредительного собрания, практически еще до того, как стала ясной расстановка сил, или в процессе осознания этой расстановки сил. Здесь можно говорить о затягивании созыва Учредительного собрания большевиками, то есть копирование того, с чем они боролись, когда театрально провозглашали, что Временное правительство затягивает созыв Учредительного собрания. Это, затем, использование квазиюридических приемов — например, определение кворума в 400 человек и создание Особой комиссии Урицкого, которая не позволила эсерам собрать этот кворум. Далее, это всевозможные административные и полицейские репрессии, в частности, объявление кадетов и эсеров врагами народа, находящимися вне закона, о чем писал, например, Питирим Сорокин, когда он сравнивал свое положение с положением мышки, убегающей от кошки, и говорил о том, что по закону все депутаты имеют иммунитет против ареста, но закон — это одно, а большевистская практика — другое. Кроме того, очень важный элемент, который четко показывает направленность действий большевиков, — это то, что можно определить как точечные убийства. Жертвами этого периода стали крупные юристы — такие, как Кокошкин, Шингарев, позднее Лазаревский, которые могли дать аналитическую оценку самого факта роспуска Учредительного собрания как государственного переворота. Все это вместе, по-моему, говорит о том, что существовала определенная целенаправленная политика. Следует отметить в связи с этим и появление качественно новой интерпретации марксизма. Ленинизм представлял собой, очевидно, ревизию классического марксизма. Она включала новую концепцию диктатуры: не как формы правления, а как диктатуры в узком понимании — как репрессивной машины террора; отказ от всех форм демократии во имя примитивного равенства в таком понимании, которое можно найти только у Гракха Бабефа и «бешеных» в период Французской революции; номинальный характер конституционализма, который противопоставлялся реальной Конституанте. В этом состоит объяснение Конституции 1918 г. как документа, который возник в качестве альтернативы концепции Учредительного собрания. Конституция 1918 г. — парадоксальный документ, уникальный пример Конституции, которая юридически закрепляет диктатуру. Наконец, сюда же можно отнести раскол мирового коммунизма, поскольку даже левые союзники большевиков — такие, как Роза Люксембург или Анжелика Балабанова, не могли смириться с идеей роспуска Учредительного собрания, массовым террором и установлением тотального бюрократического правления.
Несколько слов о причинах и последствиях роспуска Учредительного собрания. Причинами роспуска Учредительного собрания, я думаю, следует считать кризис российской демократии, кризис в содержательном отношении, в частности, противоречия российской модернизации, неэффективность всеобщих выборов в стране, где население к этому было совершенно не подготовлено. Ошибкой было использование демократических форм, которые отторгались политической культурой страны, и в частности, спорность самой концепции Учредительного собрания как такого форума, на котором окончательно могут быть решены все вопросы. Это была концепция и связанная с ней форма правления Третьей французской республики, которая акцентировала внимание на парламентские институты, но практически не давала полномочий правительству. Следствиями этого выбора становились — отказ Временного правительства от решения всех принципиальных вопросов по существу до созыва Конституанты; абсолютизация формальных и процедурных аспектов народного волеизъявления (что вело к потере времени в условиях революционного кризиса), наконец, полному параличу исполнительной власти. Эта идея «непредрешения народной воли» вытекала именно из той политической конструкции Третьей французской республики, которая, будучи заимствована во многих государствах межвоенной Европы, повсюду завершилась установлением авторитарной модели власти.
Сторонники Учредительного собрания, которые думали, что дискуссия с большевиками будет идти по образцу парламентских дебатов в Таврическом Дворце, совершено не представляли себе новой технологии государственных переворотов, которая была создана Лениным и Троцким.
Следствия роспуска Учредительного собрания, на мой взгляд, очень велики для истории страны. Я не думаю, в отличие от ряда предшествующих участников дискуссии, что Учредительное собрание — просто эпизод. Я полагаю, что Учредительное собрание — очень важное событие, так же как и его роспуск. Это — кризис легитимности всего переходного процесса и всех революционных институтов власти. Это — разрушение возможностей достижения компромисса и запуск той машины революционного разрушения, работа которой состоит в последовательном делегировании власти от консерваторов к умеренным и от умеренных к радикалам, вплоть до личной диктатуры Ленина и Сталина. Это — установление режима террора, оказавшегося необходимым потому, что нельзя эффективно управлять без применения насилия, не имея социальной базы. И, кроме того, это, конечно, отказ от правового способа социальной модернизации. Если Временное правительство такой способ закладывало в свой проект, то весь последующий ХХ в. продемонстрировал исключительно неправовую модернизацию (что отразилось на ее цене и результатах).
Я думаю, что роспуск Учредительного собрания — это системный кризис национальной идентичности, который не преодолен до настоящего времени. Если мы посмотрим на это явление в сравнительной перспективе, то увидим, что Конституанты крупных революций, такие как Конвент во Франции, Филадельфийский Конгресс в США, Франкфуртский парламент, конвенты в Южной Европе и в Восточной Европе после коммунизма, — были основой консолидации нации (обретения подлинной национальной идентичности, основанной на принятии одних правовых норм, культурных ценностей и исторических воспоминаний). Этого не произошло в России. Россия, как гражданская нация, не была консолидирована в 17-ом году и остается неконсолидированной в настоящее время.
Это позволяет говорить об очень серьезных следствиях насильственного роспуска Учредительного собрания в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В период революции — в виде раскола старой и новой России, раскола общества в период гражданской войны, когда одни выступали под лозунгами Учредительного собрания, а другие против; раскола внутри белого движения и эмиграции по вопросам будущего политического и правового устройства. В новейшее время следствием данного события следует признать непрочную легитимность советского режима, падение которого в мирное время стало уникальным явлением мировой истории. В конечном счете, это — политический раскол, проявившийся в 1993 г. — между коммунизмом и либерально-демократическим вектором развития. Я полагаю, что распад Советского Союза также имеет прямое отношение к роспуску Учредительного собрания.
Важным проявлением кризиса национальной идентичности, связанным с роспуском Учредительного собрания, стали те трудности историографии, которые мы здесь констатировали. Фактически можно говорить о том, что в современной историографии после 70 лет отсутствия дискуссии по этим вопросам имеются те же три основных позиции, что были в 1917-1918 гг. Одна из них — консервативная позиция, которая отрицает революцию вообще и отбрасывает все, что с ней связано, в том числе Учредительное собрание, как абстрактное зло. Другая концепция, скажем, необольшевистская или умеренная социал-демократическая, выдвигает тезис о том, что, может быть, большевики ошибались, но социалистический выбор — оправдан (отсюда — амбивалентная и противоречивая оценка Учредительного собрания). И третья концепция, которая нам представляется наиболее адекватной, — это либеральная концепция, дающая возможность взвешенного академического анализа и понимания Учредительного собрания на уровне понимания тех моделей политического устройства, тех конституционных форм, которые могли реализоваться, но не были реализованы в результате неконтролируемой динамики революционного процесса.
А. Н. БОХАНОВ
Я хочу оттолкнуться от предыдущего выступления А. Н. Медушевского. Действительно, он абсолютно прав в том смысле, что национальной идентичности, не было тогда, нет и сейчас. Но ведь именно либеральное мировосприятие и выступило главным противником национальной духовной самоидентификации русской нации. И революция 17-го года, как написал Розанов, стала самоубийством великого народа. «Отчего он погибает? — восклицал полубезумный Василий Васильевич. — Мы самоубиваемся». И это действительно был великий, невиданный вообще в истории суицид огромного этноса. Но надо сказать, что русский этнос пострадал, с моей точки зрения, сильнее всего, он до сих пор не находится в стадии национальной духовной самоидентификации.
Теории о том, что есть какая-то объективная история, давно несостоятельны. Не может существовать никакой объективной истории, потому что историк всегда субъективен. Есть субъект — конкретный человек, и есть необозримый мир, необозримое явление — в данном случае Россия и российская история. И никакой отдельно взятый субъект объять этот мир, охватить, естественно, не в состоянии. Поэтому субъективный метод очевиден, тем более при господстве у нас позитивистской методологии, которой уже почти 200 лет, другого метода не будет.
Оценка исторических эпох всегда сопряжена с моральной оценкой. Что такое моральная оценка? Как понять, хорошая эпоха или плохая? Если руководствоваться позитивистской методологией, как это принято, хорошая эпоха та, где человек, отдельная личность находит наиболее удобные, наиболее приемлемые и наиболее комфортные формы своего бытия. И когда мы говорим о революции, противопоставляя ее постреволюционному времени, то следует понять, что одно не бывает без другого. Существует, мол, умозрительная «хорошая цель», но есть в наличии плохие результаты — так не бывает; хорошая цель в конечном итоге должна приносить и какие-то положительные результаты. Так вот, революция обошлась стране миллионами и миллионами жизней. За тысячу лет своего существования до 17-го года подобного рода потерь ни во время нашествий, ни во время смут, ни во время всяких других пертурбаций ничего подобного Россия не знала. И на этом жутком фоне, на фоне этих костей, трупов, моря крови, говорить о каких-то «идеалах», по меньшей мере, неприлично. Видите ли, были замечательные идеи, замечательные проекты, замечательные планы, но, правда, не те люди пришли, а потому и не те результаты были получены. И подобные констатации это что: современное осмысление истории? Конечно, Ленина и Сталина можно назвать гениальными людьми с одной принципиальной оговоркой: это гении зла.
Задолго до революции было известно, что в русской натуре, в русском характере существуют две составляющие — святое и звериное. Святое было отринуто — разнуздался зверь, и вот эти гении теории и практики зла — это вожди звериной стаи. Некоторые и сейчас все еще готовы умиляться чему-то в деяниях революционных убийц и мародеров. Просто диву даешься, как такое возможно в наше время. Какое-то нравственное бесчувствие и отупение.
Действительно, их поддержали, надо это прямо говорить, и выборы Учредительного собрания в том числе это показали. И экстремисты прошли, потому что люди действительно были опьянены лживой идеей, этим мифом о равенстве, о справедливости, о правде, который очень хорошо лег на систему архетипических представлений русского этноса (даже название большевистской газеты «Правда» — откуда оно взялось?) Конечно, это были подлоги. Никакой правды, никакой земли, никакой воли никому не было дано. Эти люди были одержимы одной идеей — идеей власти, причем они могли существовать только как тоталитарная власть. Поэтому все остальные были обречены, потому что большевизм и коммунизм могут существовать только в безраздельном пространстве. Когда при Горбачеве началась эра умеренной толерантности, зазвучали голоса о необходимости «сказать правду о Ленине и о Сталине», ясно стало, что тоталитарная эпоха доживает свои последние дни. Там, где коммунизм, там не бывает никаких других точек зрения, а иначе это уже не коммунизм.
Что касается Учредительного собрания (я опять возвращаюсь к своему тезису), это эпизод, потому что Учредительное собрание ничего не решало. Там сидели, еще раз хочу напомнить, террористы и экстремисты, на две трети убийцы; доминировали же эсеры. Откуда они взялись? Что они могли решить? Что мог Чернов решить? Это просто глупый человек. Вы почитайте его. Человек абсолютно недалекий, который был совершенно лишен всякого интеллектуального кругозора. Абсолютно! И вот он что-то там решал…
Хочу сказать следующее. Выборы были, конечно, не свободным волеизъявлением. Никаких консервативных элементов не существовало на политическом небосклоне, они не были представлены в Учредительном собрании. Понятно, куда они делись, потому что они были терроризированы уже с марта 1917 г. Многие из них так и сидели в казематах — кто в Петропавловке, кто где-то еще. Террор против национальной идентификации начался как раз в марте 1917 г. А потом, что же должно было решать Учредительное собрание? Ведь главный вопрос о государственном устройстве уже был решен явочным порядком: кучка демагогов и авантюристов из числа Временного правительства провозгласила Россию республикой за четыре месяца до открытия Учредительного собрания.
И последнее. Я просто хочу призвать коллег к деликатному благоразумию. Конечно, все вольны свои точки зрения исповедовать. Тут не о чем спорить. Но все-таки есть вещи, к которым надо относиться очень аккуратно. Вот эти пролетающие мимиходом фразы: «церковь поддержала», «церковь не одобрила»… Дорогие коллеги, церковь — это такой сложный многосоставной организм, и если вы берете какого-то отдельного иерарха или какую-то отдельную группу лиц — это не церковь, и давайте не будем употреблять понятия, которых не существуют в багаже секулярной исторической науки. А если мы хотим говорить о другом багаже, то давайте проводить отдельные беседы о понятиях и терминах, которые у нас все перепутаны…
Возвращаясь к истокам, я скажу: революция — это катастрофа, невиданная в истории России, которая volens-nolens отразилась на всем портрете мировой истории ХХ века.
В. М. ЛАВРОВ
Спасибо. Что касается патриарха Тихона, то он высказал свою точку зрения на революцию 1 января 1918 г. в храме Христа Спасителя: «Минувший год был годом строительства Российской державы. Но увы! Не напоминает ли он нам печальный опыт вавилонского строительства? И наши строители желают своими реформами и декретами облагодетельствовать не только несчастный русский народ, но и весь мир, и даже народы гораздо более нас культурные. И эту высокомерную затею их постигнет та же участь, что и замыслы Вавилонян… Вышний посмеется планам нашим и разрушит советы наши».
Л. Г. ПРОТАСОВ
Понятно, ни одна революция не обходится без вождей, подлинных или легендарных. Некоторые события или даже периоды 1917 г. прямо персонифицированы именами Керенского и Корнилова. Напомню известное высказывание Троцкого, что без него, но с Лениным, октябрьское восстание большевиков все равно произошло бы, без Ленина, но с Троцким — маловероятно. И это, кажется, так. Роль личности в этих событиях действительно велика. Но я вполне согласен с В. П. Булдаковым, что 1917 г. не выдвинул харизматических лидеров. Даже Ленин не был им в 1917 году и стал таковым уже после гражданской войны.
Но тут, пожалуй, важно другое. В 1917 г. преуспели те политики, которые умели примениться к толпе, подыгрывая ей, используя ее энергию, льстя ей. Лучше всего это получалось у большевиков, чья прямолинейность и грубоватость более импонировали толпе с точки зрения социальной близости.
Что касается другой стороны этой проблемы — «революции — праздник эксплуатируемых и угнетенных» — это, действительно, так. В периоды революции получают свободный выход все массовые проявления их активности, от осознанных политических действий до подсознания, от реализации своих социальных интересов до выражения инстинктов. В иных случаях массы просто диктуют политикам линию поведения. И большевики, правильно уловив внутренний подтекст массовых требований демократического мира (фактически, мира любой ценой), дали немедленный «похабный» мир и одновременно распустили армию, которая могла свергнуть их. Массовый психоз парадоксально проявлялся даже в избирательной активности населения на выборах Учредительного собрания, куда явилось 65% избирателей. А как не придти на выборы мужику, если, по слухам, за это его лишат земли.
Изучение облика российской политической элиты 1917 г. показывает ее своеобразие. Она сложилась на руинах прежней правящей элиты и потому строилась не на ротации. Ее облик отражал состояние партийной системы с явным креном влево. Поэтому приоритетными стали не опыт и навыки управления, интеллект и образование, а некие априорные схемы скорейшего построения земного «рая». Это невысокое «качество» политической элиты 1917 г. многое объясняет в дальнейшей судьбе страны.
Что касается причины и последствия разгона Учредительного собрания.
Чем больше занимаюсь историей Учредительного собрания, тем больше сомневаюсь. Теперь уже очевидно, что эта идея была навязана интеллигенцией, о чем еще в 1905 г. писал в своем дневнике В. О. Ключевский, видя в ней заимствование: «Так было на Западе, значит так должно быть и у нас». Хотя социалисты первыми включили требование созыва Учредительного собрания в свои программы, популярность ему придала «банкетная кампания» осени 1904 г., организованная либералами. Показательно, что эта идея, зародившись в Европе, там же и умерла вместе с российскими эмигрантами. В самой России она не возродилась даже на переломе эпох — с крушением коммунистического режима.
Далее. Внешне Учредительное собрание выглядит жертвой, безжалостно растоптанной большевистским Франкенштейном. Но при более внимательном анализе видно, что зародыш гибели заключался в самом депутатском корпусе, в конфронтационном, деструктивном типе его политической культуры. Об этом говорит стенограмма единственного заседания, об этом говорит опыт предшествующих представительных учреждений — Демократического совещания и Предпарламента. На это же указывает и судьба большинства депутатов: свыше 60% их погибли насильственной смертью в годы Гражданской войны и последующих репрессий. Это выглядит как общий знаменатель судьбы самого Учредительного собрания.
Не соглашусь с высказанным здесь суждением, что Учредительное собрание смотрелось антиподом в сравнении с Государственными Думами, которые вызывали только насмешку, будучи связаны с николаевской эпохой. Они уже прочно вписались в политическую систему, да и некоторые партии (кадеты, меньшевики) практически стали или становились парламентскими. Точно так же юридически неправомерно говорить о разгоне двух первых Дум — они были распущены согласно положениям Основных законов империи. Напротив, Учредительное собрание, как верховный суверенный орган, было именно разогнано большевиками. Касаясь высказанного в дискуссии замечания, что оно не признало Советского правительства, отвергнув Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, замечу, во-первых, что оно его не отвергло вообще, а передвинуло в середину повестки своей работы; во-вторых, Учредительное собрание в любом случае не могло ее принять — это было самоубийственно (зачем тогда оно нужно?).
В истории революции Учредительное собрание сыграло, пожалуй, двоякую роль. С одной стороны, как интегрирующая идея оно могло консолидировать общество, если бы было созвано возможно раньше, в любом случае, до корниловщины. С другой, — формула «непредрешения» основных вопросов государственной жизни до созыва Учредительного собрания, принятая в ночь на 2 марта 1917 г. соглашением между думскими и советскими лидерами, связывала Временное правительство по рукам и ногам, поскольку любые его действия (или бездействие!) подвергались резкой критике справа и слева как нарушение прерогатив Учредительного собрания.
Об итогах выборов в Учредительное собрание. Статистически они вполне реабилитированы историками, то есть признан факт свободного и реального волеизъявления населения, при котором правящая партия — большевики — получили менее четверти всех голосов. Не выдерживают уже критики «объяснения» вроде того, что народные массы еще не разобрались в большевистской политике, что правые эсеры «присвоили» голоса эсеров левых и пр. Столь же ненаучной, идеологизированной представляется версия, будто избиратели в 1917 г. на 80% проголосовали «за социализм». Впервые высказанная председателем Учредительного собрания В. М. Черновым на заседании 5 января, она была развита первым историком Собрания Н. В. Святицким и подхвачена советскими историками. На самом деле люди, действительно, голосовали за социалистические партии, но не за их программы, сулившие социализм в том или ином его виде, а за ближайшие, конкретные обещания этих партий, за их избирательные платформы.
Роспуск Учредительного собрания, несомненно, открыл дорогу к гражданской войне, в любом случае, стал поводом для нее (casus belli). Стало банальностью говорить о том, что история не знает сослагательного наклонения. Понятно, что мы не можем ничего изменить в происшедшем и не можем прогнозировать, но это не значит, что мы должны отказывать себе в праве рассматривать некие исторические альтернативы спустя десятки лет, хотя бы здесь, за Круглым столом. Иначе мы просто превращаемся в регистраторов событий, в хроникеров.
Следует признать, что Учредительное собрание уже не имело перспективы. Его статус вполне мог быть оспорен после ухода с заседания 180 большевиков и 40 левых эсеров. К ним надо прибавить около сотни украинских делегатов, не приехавших на открытие Собрания, свыше 30 депутатов от Закавказья (кроме Скобелева и Церетели), несколько десятков учредиловцев из Туркестана и т. п. Но главное было в том, что оно стало своего рода разменной монетой политических партий, не исключая и эсеров. Известно, что в мае 1918 г. они уже выдвигали лозунг Учредительного собрания без большевиков и левых эсеров. На Уфимском совещании в сентябре 1918 г. правые эсеры фактически пошли на создание коалиционной власти, отодвинув на задний план идею Учредительного собрания. О кадетах и других партиях и говорить не приходится. Правда, идея «непредрешения» присутствовала в антибольшевистских платформах периода Гражданской войны, но это была, скорее, декларация о намерениях.
А. К. СОКОЛОВ
Я бы хотел прокомментировать некоторые позиции. Л. Г. Протасов говорил, что принять Декларацию трудящегося и эксплуатируемого народа означало самораспуститься. Но на то и Учредительное собрание, чтобы «учредить» власть, после чего распуститься и передать ее новым учреждениям. Напомню, что Советы в теории были многопартийными, и большинство партий были согласны работать в них. И большевики не возражали, только при одном условии — поддерживать советские декреты, выработанные большевиками, в правоте и справедливости которых они не сомневались. Мне не нравится, что мы все-время примешиваем оценку последствий революций к целям и задачам. Если уж пошла речь об отдаленных или близких последствиях, то, наверное, логично говорить о том, что случилось сразу после Октябрьского переворота. (Кстати, чего мы спорим: переворот или революция? Иностранное слово «революция» означает по-русски «переворот»).
У большевиков было очень и очень смутное представление о том социализме, который они обещали людям, о том, как и что нужно делать. Думаю, никто не будет возражать против этого тезиса, и об этом уже говорилось. Первый лозунг, который они провозгласили, когда пришли к власти: рабочие и трудящиеся, рабочие и крестьяне, вы сами управляете государством, сами налаживаете свою жизнь… И они принялись «налаживать», как умели. Так что не все следует списывать на большевистских вождей. Здесь не было заговора и злого умысла. Напомню, что к уничтожению частной собственности предполагалось подходить осторожно, предприниматели и специалисты приглашались к сотрудничеству. Но что вышло из рабочего самоуправления — стихийная национализация и преследование «буржуев». Кого они под ними имели в виду? Владельцев, управляющих, специалистов, мастеров. Как рабочие могут управлять, не зная ни производства, ни его организации? Выход — поворот к диктатуре сверху для налаживания элементарного производства.
Другой пример деревня. Что говорили большевики крестьянам? Берите землю в свои руки, налаживайте хозяйство. Крестьяне по своему разумению принялись «налаживать». Что получилось в результате? Развал аграрного рынка, продовольственный кризис, голод, введение продовольственной диктатуры, продотряды и комбеды.
В области государственного управления. Давайте, трудящиеся, управляйте, — сказали большевики. В результате — саботаж чиновников, дезорганизация финансового и хозяйственного управления. А дальше события потекли своим чередом, погружая страну в однопартийную диктатуру, пучину Гражданской войны, в систему военного коммунизма.
Вообще, по-моему, не следует одновременно ставить слишком много больших вопросов, на которые сразу не ответить. Надо решать их последовательно, шаг за шагом распутывая все сложности и перипетии нашей истории.
С. В. ТЮТЮКИН
Если говорить о роли в событиях 1917 г. отдельно взятой выдающейся человеческой личности, то она была, бесспорно, очень велика, но при одном очень важном условии. Я имею в виду наличие политической партии и идущей за ней социальной группы населения (или ее значительной части), которые эту личность выдвигают, поддерживают и превращают ее мысли и дела в ориентир для всей своей общественной деятельности. И здесь на первое место, конечно же, нужно поставить в 1917 г. В. И. Ленина.
Нельзя принимать всерьез снисходительно-насмешливые оценки Ленина как несостоявшегося адвоката, возомнившего себя новым пророком и фактически погубившим Россию. Характерно, что А. Н. Боханов называет его «черным гением», отдавая должное исключительным качествам Ленина как вождя и организатора масс, но категорически отрицая какую бы то ни было позитивную его роль в истории нашей страны. Бесспорно, Ленин был фанатично предан коммунистической идее, но в то же время он мог быть совершенно трезвым политиком и блестящим организатором, человеком колоссальной энергии и силы воли, решавшим задачи, которые большинству людей казались просто невыполнимыми. Большевистский Октябрь 1917 г. был в полном смысле слова его детищем, и хотя он мог бы, вероятно, состояться и без Ленина, подлинным вождем большевизма и тех рабочих, солдат и матросов, крестьян и представителей интеллигенции, которые шли тогда за большевиками, был именно Ленин. Принципиально важным было и его последующее решение о переходе от политики «военного коммунизма» к нэпу, последовательное продолжение которого, пусть с корректировками, спасло бы нашу страну от многих бед. Но, пожалуй, именно на примере Ленина можно проиллюстрировать ту закономерность Новейшей истории, что сила государственного и партийного деятеля заключена, помимо его таланта, в связи его с тем — пусть и не очень многочисленным — общественным коллективом, который сделал его своим лидером. И в этом отношении внешне невзрачный Ленин был могущественнее Троцкого, Свердлова, Каменева, да, пожалуй, и Сталина — каждого в отдельности и всех вместе.
В последние годы много говорят о жестокости Ленина. При этом вспоминают о трагической судьбе царской семьи, первых советских концлагерях, подавлении Кронштадтского мятежа, «философском пароходе», арестах меньшевиков и эсеров, а также о многочисленных ленинских письмах с требованием немедленно расстрелять того или иного нерадивого советского начальника... Было бы наивно изображать Ленина «святым», принципиальным последователем «непротивленца» Толстого или просто безгранично добрым, всепрощающим человеком. Он действительно был жестким, совсем не сентиментальным и очень четко ориентированным в классовом отношении политиком. Казнь старшего брата Александра и покушения на его собственную жизнь в январе и августе 1918 г., а также многочисленные примеры репрессивной политики царизма, неопровержимые факты белогвардейского террора в годы Гражданской войны, бесспорно, не настраивали Ленина на благодушный лад. Да и трудно было ожидать чего-то другого от главного коммунистического диктатора в эпоху диктатур пролетариата, хотя нужно сразу же снять с него личную ответственность буквально за каждый акт революционного насилия в советской России в 1918-1922 гг. Известны и многие случаи доброжелательного и внимательного отношения Ленина к товарищам по партии и простым людям, попадавшим в поле его зрения. Ленин, бесспорно, не был фанатиком насилия, как назвал его Керенский. Но во многих случаях он действительно санкционировал его применение, считая, что этого требуют интересы революции и государства, за судьбу которых он вместе со своей партией отвечает, будучи убежден, что только он, Ленин, и его большевистская партия понимают подлинные национальные интересы России. Спорно? Да. Но опыт мировой истории подсказывает, что подобные вопросы решаются, в конечном счете, только силой, а она в 1917 г. реально была на стороне Ленина. Трудно удержаться от того, чтобы не привести маленький отрывок из известных воспоминаний Максима Горького, остро критиковавшего Ленина в 1917-1918 гг., но затем во многом изменившего свою точку зрения. После того, как однажды они вместе прослушали «Аппассионату» Бетховена, Ленин сказал ему, что не может слушать хорошую музыку, так как после этого «хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, — добавил он, — и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм — гм, — должность адски трудная».
Яркие фигуры были в 1917 г. практически во всех крупных политических партиях, и можно назвать здесь немало таких имен. Стоит еще раз вспомнить Керенского, буквально взявшего в марте 1917 г. на абордаж Петросовет и добившегося его санкции на свое вхождение во Временное правительство. Он стал своеобразным «зеркалом» первого этапа революции 1917 г., вызвав настоящую бурю восторга у мелкобуржуазных городских слоев и интеллигенции. Однако за Керенским не стояла та эсеровская партия, членом которой он сам себя провозгласил и поддержку которой не смогла заменить тайная масонская организация, делегировавшая его во власть. Подвели Керенского и некоторые личные качества — неординарная психическая возбудимость и эмоциональность, крайний политический импрессионизм и индивидуализм и т. д. Главное же заключалось в том, что, в отличие от Ленина, он не сумел ответить на вызовы времени, требовавшего в 1917 г. в России решения, прежде всего, социальных вопросов. В итоге, когда в 1918 г. в Петрограде открылось, наконец, долгожданное Учредительное собрание, о Керенском там даже не вспоминали, хотя он тайно приехал в Петроград, чтобы выступить перед депутатами.
На роль первого лица в Российском государстве в 1917 г. вряд ли могли претендовать такие яркие и достаточно авторитетные в своих партиях фигуры, как П. Н. Милюков, А. И. Гучков, Л. Д. Троцкий, В. М Чернов, И. Г. Церетели, Ю. О. Мартов или Б. В. Савинков. Гораздо больше шансов было у таких представителей военной элиты России, как Л. Г. Корнилов или А. И. Деникин (а несколько позже — А. В. Колчак), но разруха и хаос еще не достигли в то время таких размеров, когда народ бывает уже готов променять демократию на «твердую» руку. В итоге в России в 1917 г. случилось то, что случилось.
Об Учредительном собрании. Если бы оно было созвано еще до 25 октября 1917 г., то могло бы действительно сыграть большую роль в отечественной истории и в истории российской демократии. После 25 октября и после знаменитых декретов II съезда Советов о мире и земле его заседание превратилось в условиях большевистской диктатуры в некий политический фарс, исход которого был предрешен еще до его начала, а разгон не вызвал никакого масштабного активного протеста в стране. Конечно, на мой взгляд, большевики могли бы разыграть этот спектакль тоньше и не бросать столь грубый вызов так называемому общественному мнению, но это уже другой и, увы, сейчас не актуальный вопрос. В частности, можно было бы отсрочить начало работы Учредительного собрания до прибытия в Петроград тех депутатов, которые не смогли добраться вовремя до столицы. Однако поведение Ленина и большевиков ясно показывает, что по-настоящему делиться властью они ни с кем не хотели (временное и достаточно формальное соглашение с левыми эсерами здесь не в счет), будучи искренне убеждены, что лучше их работу по переустройству всей российской жизни никто не сделает. На их стороне была в тот момент сила, и это решило исход дела. Таким образом, роспуск Учредительного собрания относится к числу явных, но неизбежных в сложившихся условиях исторических несправедливостей, которых во всемирной истории, увы, не так уж мало.
В. П. БУЛДАКОВ
Говоря о проблеме личности или лидерства в революции нельзя исходить из обычных критериев: хороший — плохой, умный — глупый, честный — прохвост. Революционная смута — это, помимо всего, тотальный отказ от прежних моральных представлений. Лидерство в революции определяется законами динамического хаоса, смешивающего добро и зло в их нормативных значениях. Революционный лидер является функциональной величиной хаоса — той самой, которая способна сотворить из него некий «порядок» — обычно тот, который изоморфен охлократическому «проседанию культуры». И здесь получает преимущество не тот человек, который сочинит самую умную программу, а тот, который сможет перевести не только ее, но и «научную утопию» и вообще любую химеру интеллигентского воображения, на язык масс. Причем имеется язык не «косной», а взбунтовавшейся массы. Важен не лидер сам по себе, а то, как он смотрится снизу, из толпы. Характерно, что феномен «слияния» вождя и массы известен со времен Французской революции.
Примечательно, что в 1917 г. Милюкова на революционной трибуне просто освистывали — «профессорские» лекции или думские речи были теперь не к месту. Его воспринимали как представителя иной культуры — как «барина». Ну, а раз барин — пошел вон.
Керенского поначалу воспринимали восторженно. Строго говоря, он просто удачно (на грани истерики, что соответствовало взвинченной атмосфере в толпе) актерствовал. Но скоро этого стало мало. Важно было не вопить об «идеалах», а указать, как к ним идти. Это у него не получалось — заактерствовался. Лидера эсеров Чернова воспринимали на трибуне как сказочника. Оратор он был никакой — стенограмма его вялого выступления в Учредительном собрании лишний раз убеждает в этом. Но, как министр Временного правительства он своими действиями развязал аграрный беспредел. На трибуне он охлократией также не владел.
Получалось, что самая массовая партия была лишена лидера, изоморфного революционно-охлократической массе. Конечно, чрезвычайно популярна была Мария Спиридонова: помимо пассионарной искренности над ней витал ореол жертвенности — а этот компонент в революционном лидерстве также необходим. Но в рамках партии ее фигура скорее знаменовала общую тенденцию к расколу (напомню, Чернов враждовал с Керенским), нежели общую способность «оседлать» охлос.
Громадной популярностью в 17-ом году пользовался Церетели — главным образом за счет искренности и убежденности в собственной правоте. Но он настаивал на соглашении с буржуазией — призывы к «консенсусу» в расколотом обществе самоубийственны. Другой выдающийся лидер меньшевиков Мартов, также блестящий оратор, не мог иметь успеха как «недобольшевик».
Строго говоря, все они попросту «разогревали» публику перед выходом на авансцену истории большевиков. «Сила революционной партии возрастает только до известного момента… надежды масс вследствие пассивности партии сменяются разочарованием», — писал позднее Троцкий.
Большевики от пассивности своих противников только выигрывали. Троцкий, примкнув к большевикам, отстаивал их стиль действий наиболее непреклонно. Этот выдающийся оратор диссипативного склада следовал логике революции: говорил то, что требовала толпа. Многие считали, что в 17-ом году в качестве популярного оратора «ядовитый» Троцкий превзошел Ленина. Впрочем, в те месяцы имел успех и сладкоголосый Луначарский, и Зиновьев, который малоуместным тенором пел нечто несусветное, и Каменев, который больше руками на трибуне размахивал. Кстати, предъявлять ультиматум Учредительному собранию большевики направили Свердлова — он своим громовым голосом мог утихомирить кого угодно.
Устойчивое лидерство в условиях динамического социального хаоса предполагает «взвинчивание» диссипативных элементов всех уровней. Этой задаче у большевиков вполне отвечали и такие «валькирии революции», как Александра Коллонтай и Инесса Арманд. Впрочем, последних следует скорее отнести к категории не вождей, а «вожаков» — революционное лидерство иерархично.
Примечательно, что Троцкий, примкнув к большевикам, безоговорочно признал лидерство Ленина. А Ленин в 17-ом году производил впечатление человека (пусть он говорил с трибуны не столь образно и пылко, как Троцкий), который «владеет истиной» и не ведает колебаний. Плюс к этому слушателей завораживала его полнейшая, как казалось, искренность. О нем говорили, что он больше, чем оратор. Он искренне отождествлял себя с массой («рабочими и крестьянами»). И ему соответственно верили.
В революции бывает востребован вовсе не самый дальновидный, умный, пылкий и т. п. Получает свой шанс любой демагог. Другое дело — надолго ли? В любом случае о них надо судить по законам и нравственным нормам их эпохи.
Проблема революционного лидерства — это не вопрос идей, программ и даже лозунгов. Это вопрос о том, как из подполья взойти на трибуну, чтобы там с помощью той или иной доктрины слепить «ударный кулак» из злого нетерпения масс. Примечательно, что в 17-м году все это происходило преимущественно в петроградских цирках. Троцкий, к примеру, говорил там по четыре часа, его заворожено слушали как Фиделя Кастро. Это не казалось ни смешным, ни символичным (в 1918 г. в Киеве Скоропадского избрали гетманом также в цирке, это сразу же вызвало веселье).
Получается, что большевики в своеобразных «красных балаганах» сумели внушить массам, что на фоне ужасов мировой войны только они представляют «ум, честь и совесть эпохи». Отношения их лидеров с толпой приобретали доверительно-магический (а вовсе не трюкаческий) характер: «Доверьтесь нам и мы дадим вам нашу программу» (Ленин). Был ли это сознательный обман? Не думаю. Это был величайший самообман, а ему люди наиболее охотно предаются именно в революционные времена, уворовывая друг у друга и толкуя вкривь и вкось идеи, теории и лозунги, реализовать которые невозможно.
Применительно к Ленину заметен еще один характерный момент: в партийных верхах он почти всегда оставался в меньшинстве, но, тем не менее, постоянно ухитрялся навязывать соратникам свою волю. Строго говоря, большевизм без Ленина не мог бы состояться. И еще одна деталь: Ленин умер «своевременно» — революционные импровизаторы деструктивного типа больше были не нужны.
Примечательно, что в 17-м году никто из революционных лидеров не обрел устойчивой харизмы (культ Ленина сложился только после его смерти). Революционный хаос словно «перебирал» достойных вождей. Революция — великая пожирательница людей и характеров, напишет позднее Троцкий. Впрочем, об этом было известно со времен Французской революции.
На фоне такого лидерства вера (как тогдашняя, так и современная) в «спасительность» Учредительного собрания представляется еще более призрачной. Напомню, что правительственную комиссию по выработке Положения о выборах в Учредительное собрание возглавлял Ф. Ф. Кокошкин, блестящий юрист. И он, конечно, исходил из лучших законов, созданных самыми продвинутыми демократиями. Абсолютизация буквы закона, между прочим, дошла там до того, что активное избирательное право предоставили Николаю Романову. Решение это волевым порядком отменил Керенский.
Тем не менее, судьба Учредительного собрания, избранного на основании самого совершенного избирательного закона, оказалась не просто печальной, но и символичной. Хотел бы отметить характерные детали. Мы привыкли говорить о циничном и едва ли не демонстративном разгоне Учредительного собрания. Ничего подобного не было — большевики, эти бывшие поклонники демократии, люди, надеющиеся сохранить авторитет в глазах международной социал-демократии, менее всего были заинтересованы в подобных акциях. Им бы хотелось, чтобы Учредительное собрание почило своей тихой смертью. Фраза матроса-анархиста Анатолия Железнякова: «Караул устал!», произнесенная в обстановке, когда на хорах его подчиненные клацали затворами винтовок, свидетельствует именно об этом. Расстрел демонстрации в поддержку Учредительного собрания также не похож на акцию направленного террора — скорее всего, начали палить с перепугу юнцы-красногвардейцы (в апреле 17-го также у кого-то не выдержали нервы) или провокаторы. Большевики в то время панически боялись любых массовых шествий (отсюда и стрельба красногвардейцев по крестным ходам).
Здесь прозвучала фраза о точечных убийствах — имелась в виду расправа над кадетами Ф. Ф. Кокошкиным и А. И. Шингаревым. Вообще-то ни о каком направленном терроре в момент разгула охлократии (в столице едва прекратились начавшиеся еще в ноябре пьяные погромы), когда реальные управленческие возможности власти не простирались дальше коридоров Смольного, говорить не приходится. Эта расправа, произошедшая на фоне разгона Учредительного собрания, символична совсем другим. Убитые либеральные депутаты российской конституанты пользовались колоссальным нравственным авторитетом далеко за пределами своей партии. Шингарев, автор популярной в свое время книги «Вымирающая деревня» (1902 г.), считался настоящим радетелем за крестьян. Жуткая символика революции состояла в том, что в первую очередь пострадали от нее те, кто наиболее продуманно стремился к утверждению права и переустройству жизни большинства населения.
Лидеры большевиков, разумеется, менее всего были заинтересованы в убийстве этих людей — не случайно к его расследованию были привлечены чины старой полиции. Впрочем, раскрытие преступления не составляло труда: убийцы не особенно таились, будучи убеждены в «справедливости» своего деяния. Оказывается, что масса тогдашней «братвы» смотрела на бессудную расправу как на нечто совершенно естественное. Еще раньше раздавались голоса матросов о том, что всех депутатов Учредительного собрания, которых отправили в Петропавловскую крепость, проще в Неву побросать.
Верховодил убийцами, по словам соучастников, «толсторожий эстонец» Оскар Крейс. Он был то ли из матросского отряда Раскольникова, то представлял пролетариев завода Парвиайнена — возможно, побывал и там, и там. Производил впечатление живодера. Второй главарь — Яков Матвеев также представлял тип «революционного убийцы». «Классовая мокруха» числилась и за некоторыми другими участниками преступления. Большевики были шокированы этим убийством, пятерых его «пассивных участников» осудили. Что касается главарей — Крейса и Матвеева, они скрылись, что было несложно, учитывая сочувствие к ним со стороны матросов и красногвардейцев.
Конечно, новым правителям, о которых накануне убийства Шингарев писал в дневнике, что это «самые интересные и самые ужасные из всей этой потерянной смеси большевистской бурды», такие «сторонники» уже были не нужны. Теперь им требовались точные и бессловесные исполнители их приказов.
Что касается последствий разгона Учредительного собрания, то их по большому счету не было вообще — точно так же, как позднее никто в низах не всплакнул по поводу расстрела царской семьи. Конечно, под лозунгом защиты Учредительного собрания пыталась объединиться контрреволюция, даже крестьяне иной раз восставали под его знаменами. Впрочем, иные их выступления происходили и под монархическими лозунгами — нужно же было что-то противопоставить большевикам помимо озлобленного мата! Продолжалась настоящая вакханалия всевозможных символов, фетишей и знамен — даже российский триколор вверх ногами вывешивали.
Судьба Комуча не случайно оказалась столь короткой. Что касается белогвардейцев, то они политически были весьма неоднородны. Корниловцы были преимущественно республиканцами, дроздовцы тяготели к монархизму. Но их лидеры придерживались того же «непредрешенчества», которое в значительной степени сгубило Временное правительство. В любом случае и Деникин, и Колчак готовы были в отдаленной перспективе передать власть вовсе не Учредительному собранию старого состава, которое в единственном своем заседании пропело «Интернационал» (будущий официальный советский гимн), а некоему призрачному «национальному собранию». А, в общем, все противники большевиков постоянно чего-то ожидали, всегда тянули с решениями, явно опасаясь личной ответственности за непредсказуемые последствия своих действий. По-человечески их можно понять — на решительные шаги в таких условиях способны только люди, по-настоящему одержимые утопией.
Так можно ли говорить о «серьезных последствиях» или «альтернативах» разгона Учредительного собрания? Можно. Если окончательно забыть о той обстановке, в которой это произошло. В общем, это удел доктринеров, не замечающих реальности — таких же, как те, что невольно проложили дорогу к власти большевикам.
Б. С. ИЛИЗАРОВ
Еще несколько слов о несовпадении первоначально поставленных целей и конечных результатов деятельности тех или иных исторических героев. Поясню свою мысль на примере бытовом, житейском. Когда вы подаете на улице нищему инвалиду, то преследуете определенную цель: совершаете подаяние, для того чтобы он купил себе еды или лекарство и т. д. А результат может быть совсем иной: он может напиться, может купить себе наркотики и все, что угодно… Жизнь каждое мгновение преподносит нам подобные сюрпризы. Общество — это открытая система, в которой каждый человек обладает свободой воли. Здесь причинно-следственные связи работают (если они вообще работают?) совсем не так, как в системах замкнутых, механических. Такие житейские примеры хорошо иллюстрируют роль личности, и она тем более становиться великой, чем большей властью (авторитетом: политическим, экономическим, моральным, научным, эстетическим и т. д.) эта личность обладает. Чем больше у нее влияния, тем большее воздействие она оказывает на общество в целом и на отдельного человека находящегося в ее сфере. Но никакая власть, даже самая тираническая, не может стать абсолютной, так как у человека всегда есть возможность «выскользнуть», уклониться от ее удушающих объятий, не говоря уже об открытой борьбе, в том числе, революционной. В российской (плехановской) интерпретации марксизма, которая была воспринята большевиками-ленинцами, роль личности в истории трактовалась двусмысленно. С одной стороны, в обществе господствуют объективные силы мало подвластные личности, и поэтому подлинно историческая личность должна умело пристроиться к ним. С другой стороны, личность активно воздействует на общество, революционизирует и перестраивает его. Г. В. Плеханов пытался соединить марксизм и модное тогда ницшеанство. Он даже первый перевод «Манифеста коммунистической партии» умудрился украсить эпиграфом из Ницше. Нельзя вслед за Ницше обожествлять человека, но и сводить его роль к функции «винтика» (по-сталински), столь же ошибочно. Человек исключителен лишь в одном отношении: он единственный обладающий сознанием субъект истории, хороший или плохой, но он ее творец, а вот объектов истории, которыми он манипулирует превеликое множество. Объекты истории — это все то, что людей окружало в прошлом и окружает сейчас в природе и в обществе, и где люди активно и непредсказуемо творят из этих объектов собственные миры. Парадокс в том, что тот же человек упорно пытается приравнять себе подобных людей к безвольным объектам, манипулировать ими, точно так же, как манипулирует с бездушными природными вещами или с умозрительными абстракциями.
Только человек в истории — ее существо и сущность. А раз это так, то все остальные силы — это всего лишь абстракции. Государство, общество, классы, элиты, партии, церкви и т. д. это — абстракции, конструкты нашего коллективного ума. Это «виртуальные», условно существующие объекты. Ни «нацию», ни «государство» и т. д., как объект ни увидеть, ни прощупать, ни услышать, т. е. предметно познать нельзя. Но до тех пор, пока большинство их мыслит и тем доказывает другим, что они существуют, они будут сохранять для всех свою реальность. На самом деле это мощнейшие социальные абстракции, но не имеющие, в отличие от человека, ни собственной «души» ни «тела». И во имя этих абстракций человечество проливает кровь и отдает самую душу.
То насколько глубоким содержанием наполняются эти абстрактно-всеобщие понятия, и то, как они используются в социальной практике, зависит исключительно от людей, от их таланта. А человек может быть талантлив в каком-то одном отношении и совершенно бездарен в других. Есть талант ученого, писателя, но есть талант семьянина, слесаря, государственного руководителя, полководца, революционера, бандита… Без сомнения Ленин и Троцкий были талантливыми революционерами, а были ли они талантливыми государственными строителями, это доказать труднее. Ленин обладал мощным талантом революционера-разрушителя, но был бесталанным семьянином, черствым человеком, не воспринимал искусство и т. д. В этих сферах деятельности он проявил себя бездарно. Троцкий был не только талантливым революционером, но и талантливым организатором, полководцем, литератором, и, в тоже время, оказался бездарным политиком, самовлюбленным и чванливым эгоистом и т. д. Их общая бездарность как политиков-строителей проявила себя в том, что и Ленин и Троцкий, не желая того, сообща подготовили почву для сталинского национал-большевизма. Это относиться и к другим государственным деятелям, в том числе и к нашим современникам. Мы видим, что один человек более талантлив, другой менее талантлив. Мы видим эпоху Горбачева, эпоху Ельцина, эпоху Путина. Это совершенно разные эпохи, но в целом они в чем-то похожи на эпоху революций 1917 г. В связи с этим я хочу еще раз подчеркнуть, что история — это люди. Поэтому роль личности в истории, в том числе в Октябрьской революции, чрезвычайно велика. Человек вообще определяет все.
Насчет Учредительного собрания. Здесь я согласен с А. Н. Медушевским. Идея созыва Учредительного собрания, похороненная большевиками в 1917 г., время от времени вновь начинает маячить на дальних политических горизонтах. В ХХ веке нашим вождям и всему обществу так и не хватило духа и ума вступить на полноценный демократический парламентский путь развития. Неужели у нас меньше политических и культурных задатков чем, например, у современных народов Индии?
В. А. ШЕСТАКОВ
Я думаю, очень важны в условиях революции не только личностные характеристики ее участников но, за какую команду, на каком поле они играют. Очевидно, в условиях революции популисты и люди волевые имеют всегда преимущества перед интеллигентами, перед чиновниками. И поэтому, если бы, скажем, Керенский играл за другую команду или, наоборот, Ленин бы играл на демократическом поле, очевидно, результаты революционного развития в 1917 г. могли быть иными. Это первое.
Второе. Я думаю, Учредительное собрание разогнали потому, что его можно было разогнать. К сожалению, о чем я уже раньше говорил, позиция большевиком была близка большинству населения страны, с их патерналистскими ожиданиями. То есть большевики, хотели они этого или не хотели, но интуитивно они ощущали, как революционеры, что его можно разогнать; они показали, кто в доме хозяин. Тем самым на десятилетия определив силовые формы ведения государственной политики.
В. М. ЛАВРОВ
Спасибо большое. Я думаю, нам надо завершать наш «круглый стол».
Отношение к произошедшему 90 лет назад зависит от того, кем мы осознаем сами себя. Если осознаем неразрывную связь с тысячелетней Россией, то одно отношение. Если продолжаем поклоняться коммунистическим советским идолам, то отношение другое. То есть отношение к Октябрю зависит от степени духовности, совестливости и интеллигентности. И отношение к Октябрю — это момент истины.
Россия вышла из исторического и духовного тупика, что очень много. Но и не более того! Началось не строительство еще более научного «научного коммунизма», а происходит возвращение к обычному историческому процессу, в котором может быть все: и великие победы, и страшные беды; и ценность обычного исторического процесса в том, что он дает шанс на выживание и великие свершения.
Благодарю всех за очень интересные выступления.