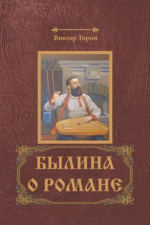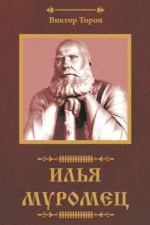«Карамзин представляет точно явление необыкновенное, – писал Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями». – Вот о ком из наших писателей можно сказать, что он весь исполнил долг, ничего не зарыл в землю и на данные ему пять талантов истинно принёс другие пять. Карамзин первый показал, что писатель может быть у нас независим и почтён всеми равно как именитейший гражданин в государстве... Никто, кроме Карамзина, не говорил так смело и благородно, не скрывая никаких своих мнений и мыслей, хотя они и не соответствовали во всем тогдашнему правительству, и слышишь невольно, что он один имел на то право».
В правых кругах деятельность Карамзина воспринималась как потрясение не только литературных, но и политических основ. В 1809 году один из современников доносил по начальству, что сочинения Карамзина «исполнены вольнодумческого и якобинского яда… Карамзина превозносят, боготворят. Во всём университете, в пансионе читают, знают наизусть… Не хвалить его сочинения, а надобно бы их сжечь».
Для революционеров и либералов Карамзин, напротив, был одним из столпов и символов самодержавия, на которое они обрушивали весь свой праведный пыл. Пушкин описывал реакцию декабристов на произведения Карамзина: «Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения». Но даже левые, считавшие Карамзина реакционером, отдавали должное его таланту.
Писателя, «оказавшего великие и бессмертные услуги своему отечеству», видел в Карамзине неистовый Виссарион Белинский. Карамзин был, по словам Белинского, «везде и во всём… не только преобразователем, но и начинателем, творцом». Он подчёркивал: «Карамзин первый на Руси начал писать повести, которые заинтересовали общество… повести, в которых действовали люди, изображалась жизнь сердца и страстей посреди обыкновенного быта». Слабость – в них нет «творческого воспроизведения действительности». Итоговая оценка критика: произведения Карамзина сохранили только «интерес исторический».
Для Александра Герцена Карамзин – писатель, который «сделал литературу гуманною», в его облике он чувствовал «нечто независимое и чистое». Его «История государства Российского» – «великое творение», она «весьма содействовала обращению умов к изучению отечества». Но, с другой стороны, утверждал Герцен, «можно было заранее предсказать, что из-за своей сентиментальности Карамзин попадётся в императорские сети, как попался позже поэт Жуковский». А «идея великого самодержавия, – с гневом писал Герцен, – это идея великого порабощения».
В российской либеральной историографии отношение к Карамзину было почти однозначно негативным, хотя не признавать его заслуг тоже не представлялось возможным. Василий Ключевский обнаружил у него массу недостатков, фактических ошибок, тенденциозность. Именно благодаря субъективизму и морализаторству Карамзин, по мнению Ключевского, «много помог русским людям лучше понимать своё прошлое, но ещё больше он заставил их любить его. В этом главная заслуга его труда перед русским обществом и главный недостаток его перед исторической русской наукой». Любить Россию в либеральных кругах было немодно.
В то же время религиозный философ Георгий Федотов в статье «Певец империи и свободы», связывая творчество Пушкина с «основным и мощным потоком русской мысли», отмечал, что «это течение – от Карамзина к Погодину – легко забывается нами за блестящей вспышкой либерализма 20-х годов. А между тем национально-консервативное течение было, несомненно, и более глубоким и органически выросшим».
Советская историография – с лёгкой руки Михаила Покровского и Анатолия Луначарского – объявила Карамзина выразителем интересов «торгового капитала», «махровым реакционером», «настоящей реакционной бестией». Карамзина в СССР долго вообще не издавали. В 1950-е годы к творчеству Карамзина обратился известный филолог Юрий Лотман, которого по праву считают основоположником современного «карамзиноведения». Новый всплеск интереса к Карамзину возник в 1980-е годы, когда вышли серьёзные биографические работы Н. Я. Эйдельмана, Е. В. Осетрова, В. Э. Вацуро. Карамзин вернулся. В наши дни академик Юрий Пивоваров характеризовал «последнего нашего летописца» как первого русского политолога, положившего начало не только консервативной традиции, но и всей отечественной теоретической и ретроспективной политологии.
Уже в «Письмах русского путешественника» можно найти обоснование последующего обращения Карамзина к отечественной истории: «Больно, но должно по справедливости сказать, что у нас до сего времени нет хорошей Российской Истории, то есть писанной с философским умом, с критикою, с благородным красноречием. Тацит, Юм, Робертсон, Гиббон – вот образцы! Говорят, что наша История сама по себе менее других занимательна: не думаю; нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить; и читатель удивится, как из Нестора, Никона и проч. могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев».
Знакомство с русскими летописями, трудами историков М. М. Щербатова, В. В. Татищева, И. Н. Болтина и других привело Карамзина к осознанию необходимости поиска «философической методы для расположения предметов» в деле изучения богатой великими событиями российской истории. Какова была целевая аудитория Карамзина? В одном из писем к И. И. Дмитриеву можно найти откровенное признание: «Я писал для русских, для купцов ростовских, для владельцев калмыцких, для крестьян Шереметьева… а не для Западной Европы». Карамзин постарался доказать, что у России есть собственное прошлое и собственная традиция. Этой традицией является российская государственность, имеющая своей основой принцип самодержавия, в силу которого «Россия развилась, окрепла и сосредоточилась». «Или вся новая история должна безмолвствовать, или российская имеет право на внимание», – подчёркивал автор.
«История в некотором смысле есть священная книга народов; главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего», – утверждал Карамзин.
Периодизация российской истории, по Карамзину, весьма проста. «История наша делится на Древнейшую от Рюрика до Иоанна III, на Среднюю от Иоанна до Петра и Новую от Петра до Александра. Система уделов была характером первой эпохи, единовластие второй, изменение гражданских обычаев третьей. Впрочем, нет нужды ставить грани там, где места служат живым урочищем.
С охотою и ревностью посвятив двенадцать лет и лучшее время моей жизни на сочинение сих осьми или девяти томов, могу по слабости желать хвалы и бояться осуждения; но смею сказать, что это для меня не главное».
Патриот до мозга костей, Карамзин тем не менее не ставил под сомнение норманнскую теорию происхождения древнерусского государства, которую до него активно оспаривал, например, Михаил Ломоносов.
В карамзинской концепции истории легко проследить предпочтение централизованных и твёрдых форм государственного правления перед теми, которые допускали автономию отдельных территорий и большие полномочия аристократии в центре или на местах. Древнерусское централизованное государство явно предпочтительно Руси периода княжеской раздробленности.
Восстановление государственности Карамзин справедливо связывал с политикой московских князей, которые проявили дипломатическое мастерство и вывели страну на путь государственной независимости, установив более жёсткий режим и распрощавшись с вечевыми вольностями. Однако смутные времена, наступившие после смерти Ивана Грозного, означали вызов распада государства, ответом на который в очередной раз стала жёсткая централизация. «Злодеяние, в тайне умышленное, но открытое Историею, пресекло род Иоаннов: Годунов, Татарин происхождением, Кромвель умом, воцарился со всеми правами монарха законного и с тою же системою единовластия неприкосновенного. Сей несчастный, сраженный тению убитого им царевича, среди великих усилий человеческой мудрости и в сиянии добродетелей наружных, погиб, как жертва властолюбия неумеренного, беззаконного, в пример векам и народам». О том, как Карамзин намеревался писать дальнейших ход событий, мы узнаём не из «Истории…», которая осталась незаконченной, а из других его работ.
Пришедший к власти в результате польской и боярской интриги Лжедмитрий «был тайный католик, и нескромность его обнаружила сию тайну. Он имел некоторые достоинства и добродушие, но голову романическую и на самом троне характер бродяги; любил иноземцев до пристрастия, и не зная Истории своих мнимых предков… Россияне перестали уважать его, наконец, возненавидели и, согласясь, что истинный сын Иоаннов не мог бы попирать ногами Святыню своих предков, возложили руку на самозванца…
История назвала Минина и Пожарского спасителями Отечества: отдадим справедливость их усердию, не менее гражданам, которые в сие решительное время действовали с удивительным единодушием. Вера, любовь к своим обычаям и ненависть к чужеземной власти произвели общее лавное восстание народа под знаменами некоторых верных Отечеству бояр. Москва освободилась». В 1818 году Карамзин выступил с инициативой установления памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Но и после освобождения столицы «Россия не имела царя и ещё бедствовала от хищных иноплеменников; из всех городов съехались в Москву избранные знаменитейшие люди и в храме Успения, вместе с пастырями Церкви и боярами, решили судьбу Отечества. Князья Московские учредили самодержавие; Отечество даровало оное Романовым».
Новая династия возвратила России стабильность и благополучие, обратившись к российской традиции и начав заимствование на Западе. Карамзин был уверен, что при неравном соотношении уровней развития Запада и России заимствования европейской культуры вполне возможны, и такие заимствования стали обычными уже в допетровские времена. «Вообще царствование Романовых: Михаила, Алексея, Феодора, способствовало сближению россиян с Европою как в гражданских учреждениях, так и в нравах от частых государственных сношений с её дворами, от принятия в нашу службу многих иноземцев и поселения других в Москве».
Потом пришёл Пётр I. Именно от Карамзина ведёт начало та интеллектуальная дискуссия, которая стала стержневой для российской общественно-политической мысли на последующую пару веков – вплоть до наших дней. Он начал полемику об исторической роли Петра в контексте соотношения национальной традиции и внешних заимствований. Именно в дискуссии вокруг «Истории…» Карамзина и его оценки Петра выкристаллизовались постепенно течения славянофилов, видевших (упрощённо) проблемы России в отрыве от допетровских корней, и западников, понимавших цель развития страны в том, чтобы максимально приблизить к западной модели.
Нельзя сказать, что Карамзин однозначно негативно оценивал роль Петра I. Такие оценки ему не позволяли ни его монархизм, ни преклонение перед сильной властью. Карамзин отдавал должное величию императора. Но Пётр для Карамзина – ещё и разрушитель устоев. В шестом томе «Истории…», сравнивая Ивана III с Петром, он впервые публично поставил вопрос об их исторической роли – «кто из сих двух венценосцев поступил благоразумнее и согласнее с пользою Отечества?». По его мнению, Иоанн, включив Россию в общую государственную систему Европы и ревностно заимствуя искусства образованных народов, не мыслил о введении новых обычаев, о перемене нравственного характера подданных. Пётр поступил наоборот, чем нанёс ущерб России. Страсть его «к новым для нас обычаям переступила в нём границы благоразумия». Пётр, «искореняя древние навыки, представлял их смешными, хваля и вводя иностранные», и делал это в основном насильственными методами. При нём произошло расслоение русского, единого до того народа: «…высшие степени отделились от нижних, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах». Общество раскололось на две субкультуры – «немецкую» и «традиционно русскую». Пётр унизил достоинство бояр, изменил систему государственного управления. «Честью и достоинством россиян сделалось подражание». В области семейных нравов «европейская вольность заступила место азиатского принуждения». Ослабли родственные связи: «имея множество приятелей, чувствуем менее нужды в друзьях и жертвуем свету союзом единокровия».
Пётр уничтожил патриаршество и объявил себя главой церкви, ослабив тем самым веру. «А ослаблением веры Государь лишается способа владеть сердцами народа в случаях чрезвычайных, где нужно всё забыть, всё оставить для Отечества, и где Пастырь душ может обещать в награду один венец мученический». Пётр перенёс столицу государства на окраину, построив её на песке и болотах и положив на это множество людских жизней, денег и усилий. В результате всего этого, заключает Карамзин, «мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России». Искореняя древние навыки, представляя их смешными, глупыми, хваля и вводя иностранные, государь России, полагал Карамзин, «унижал россиян в собственном их сердце. Презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к великим делам? Любовь к Отечеству питается сими народными особенностями, безгрешными в глазах космополита, благотворными в глазах политика глубокомысленного… Русская одежда, пища, борода не мешали заведению школ».
Карамзин был невысокого мнения о непосредственных преемниках Петра. «Царствование Елисаветы не прославилось никакими блестящими деяниями ума государственного. Несколько побед, одержанных более стойкостию воинов, нежели дарованием военачальников, Московский Университет и оды Ломоносова остаются красивейшими памятниками. Как при Анне, так и при Елисавете Россия текла путём, предписанным ей рукою Петра, более и более удаляясь своих древних нравов и сообразуясь с европейскими. Замечались успехи светского вкуса. Уже двор наш блистал великолепием и, несколько лет говорив по-немецки, начал употреблять язык французский».
Но далее Провидение сжалилось над Россией. «Новый заговор – и несчастный Пётр III в могиле со своими жалкими пороками. Екатерина II была истинной преемницей величия Петрова и второю образовательницею новой России». Для Карамзина это был золотой век государства Российского. Но, оставаясь верным себе, Карамзин даже в блестящем царствовании Екатерины видел некоторые пятна. «Нравы более развратились в палатах и хижинах: там от примеров двора любострастного, здесь от выгодного для казны умножения питейных домов… Горестно, но должно признаться, что хваля усердно Екатерину за превосходные качества души, невольно воспоминаем её слабости и краснеем за человечество… Екатерина – Великий Муж в главных Собраниях Государственных – являлась женщиною в подробностях монаршей деятельности, дремала на розах, была обманываема или себя обманывала; не видала или не хотела видеть многих злоупотреблений, считая их, может быть, неизбежными и довольствуясь общим, успешным, славным течением её царствования».
Но общий вывод был всё-таки в её пользу: «По крайней мере, сравнивая все известные нам времена России, едва ли не всякой из нас скажет, что время Екатерины было счастливейшее для гражданина Российского; едва ли не всякой из нас пожелал бы жить тогда, а не в иное время».
Гораздо худшего мнения он был о Павле I, в котором видел второго за всю историю – после Ивана Грозного – тирана на российском троне. Претензии к Александру I, которые Карамзин не боялся высказывать и ему в лицо, сводились в основном к чрезмерному увлечению императора созданием новых государственных учреждений, нужды в которых Карамзин не видел. Тем более что в перспективе они могли поставить под вопрос самовластие государя.
Наиболее ёмко и исчерпывающе Карамзин суммировал суть своей исторической концепции в следующих словах: «Россия основывалась победами и единоначалием, гибла от разновластия и спасалась мудрым самодержавием». Именно такой вывод, сделанный на основе анализа всей российской истории, стал фундаментом политической философии Карамзина.