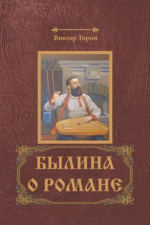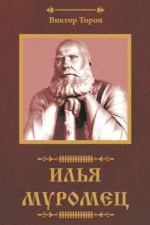Под «смутой» могли понимать и межгосударственный конфликт: «А такую деи смуту учинил промежи великих государей наших один человек» (4); «чтоб вновь меж государей и меж государств смута и кроворозлитье не всчалось» (2). Приведённые примеры доказывают, что слово «смута» активно употреблялось в повседневной речи русских людей и до, и после начала потрясений XVII столетия в значении ссоры, конфликта.
С определённого момента понятием «смута» русские люди стали обозначать целую эпоху, вкладывая в него значение тяжёлого всеобъемлющего кризиса, разорения страны. Отмечу, что на первых порах разгоравшийся кризис в Москве определяли иными словами, в частности понятием «шатость»: «по грехом в польских во всех городех шатость» (5). Вскоре, однако, слово «шатость» стало вытесняться понятием «смута». В написанной в августе 1606 года грамоте, адресованной к жителям Ельца, читаем: «И ныне яз слышу, по греху крестьянскому, многую злую смуту, по замыслу врагов наших литовских людей... И вы как так шатаетеся?.. И вашею смутою и непокорством многая кровь христьянская безвинно проливаетца, и оставя свет, во тьме шатается» (2).
В этом послании для обозначения антиправительственного движения употребляются термины «смута» и «шатость». Отмечу и то, что исток Смуты авторы грамоты видели в самозванческой интриге, поддержанной Речью Посполитой. Надежда на завершение Смуты связывалась с прекращением движения самозванцев. В августе 1611 года рязанские посадские люди составили челобитную, в которой сообщали: «Грех ради, государи, наших [зача]лась междоусобная брань со ста четвертаго на десять году да по нынешней, по сто девятой на десять год, по Рожество Христово. И в те, государи, во все смутные годы…» (2). Рязанцам, судя по тексту их челобитной, казалось, что междоусобная брань и смутные годы продолжались до Рождества 7119 года, то есть до декабря 1610-го. Почему рязанцы поторопились поставить точку в Смуте именно в тот момент? Ведь они не могли не знать о сожжении Москвы в марте 1611 года, равно как и о продолжении осады Кремля. Очевидно, что завершение «смутных годов» они связывали с последовавшей в декабре 1610 года гибелью Лжедмитрия II. Таким образом, самозванческая составляющая Смуты оставалась в восприятии русских людей главной по меньшей мере до конца 1610 года.
Русские люди начала XVII века осознавали, что Смута связана с кризисом московской монархии, последовавшим вслед за пресечением династии Рюриковичей. Это обстоятельство сделало возможной борьбу за власть нескольких претендентов, в том числе и самозваных. В грамоте, отправленной в 1610 году в лагерь короля Сигизмунда III под Смоленском, московские бояре утверждали: «После блаженные памяти царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии на Московском государстве были не природные государи, и потому в Московском государьстве и смуты учали быти, и многие воры назывались государьскими детьми» (6). Для многих россиян Смута ассоциировалась с противостоянием Василия IV и Лжедмитрия II: «А в те поры в Московском государстве была смута: стоял под Московским государством вор тушинской» (7).
Движение «ложных царей» сопровождалось «воровством», изменой населения законной власти, что отразилось в формулировке «воровская смута». «Воровство» как компонент Смуты стало заметно уже при Василии Шуйском: династический конфликт начал переходить в плоскость социального противостояния. Источники, современные событиям, говорят о «воровстве» с начала восстания Ивана Болотникова: «А как после Розтриги сел на государство царь Василей, и в полских, и в украиных, и в северских городех люди смутились и заворовали». В связи с описанием противоборства правительства Василия Шуйского с Иваном Болотниковым и Лжедмитрием II автором «Бельского летописца» употребляется оборот «воровская смута»: «И царь Василей Иванович… послышав такую воровскую смуту…»; «И оставя такую воровскую смуту и прелесть… почали из городов приезжати к Москве к царю Василью Ивановичю» (8, с. 244, 250).
«Воровство» для людей Смутного времени не было понятием абстрактным: «заводчики Смуты» вполне чётко определялись современниками как представители социальных низов. В грамоте патриарха Гермогена (Ермогена) указано: «По грехом всего православного христианства собралися воры многие разбойники и казаки воровские и учинили в земле смуту великую» (2). Казаки были обозначены как «заводчики Смуты» и позднее, в 1614 году, утверждая, что атаман Заруцкий, «взяв с собой прежних ведомых воров… которые… по заводу воров-казаков называлися государскими детьми ложно… збежал… в Астарахань. А к ним в Астарахани пристали прежние их советники воры, которые воровали в смутное в безгосударное время, и воров государскими детьми называли ложно с ними вместе, и, будучи в Астарахани, хотели своим злым умыслом заводить такое ж воровство по-прежнему» (1, с. 53–54).
Основная среда, пополнявшая своими представителями казачью вольницу, понималась русскими людьми начала XVII века вполне конкретно. В 1604 году, когда Смута давала о себе знать лишь первыми отдалёнными раскатами грома приближающейся социальной бури, московские власти отмечали, что «на Дону, и на Волге, и на Яике живут казаки-воры, беглецы, которые за воровство приговорены к казни, а иные – холопи боярские, и от того, збежав, воруют» (9). Не проходила мимо внимания современников и ответственность за Смуту представителей иных социальных слоев, в частности служилых людей. Об этом было сказано в приговоре Первого ополчения от 30 июня 1611 года: «…дворяне и дети боярские в нынешнее смутное время и в разоренье вывозили у своей же братьи, у дворян и у детей боярских, крестьян и людей» (10, с. 38).
«Воровство» не заслоняло собой самозванчества, сопровождая его вплоть до гибели Лжедмитрия II. Не прекратилась Смута, согласно представлениям современников, и после убийства «калужского вора», когда самозванческая составляющая кризиса уже практически исчерпала себя. Появление в Ивангороде и Пскове в 1611 году Лжедмитрия III было малозначительным эпизодом на фоне успехов движения Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Отсутствие на престоле государя исключало возможность прекращения кризиса, в связи с чем в обращении появилась ещё одна формулировка – «безгосударное время»: «И ис Казани те нагайские послы отпущены в смутное и в безгосударное время» (11).
С 1611 года понятие «смута» сопровождалось порой указанием на одну из самых драматических её составляющих – сожжение Москвы поляками («московское разоренье»): «В смутное, государь, время, в московское разарение, был, государь, я, сирота твоя, с казаками под Москвою» (12). На разорение столицы и уничтожение в московском пожаре огромного числа документов постоянно ссылались как челобитчики, так и приказные подьячие: «А отпуску княж Иванова в Кизылбаши… после литовского разоренья не сыскано»; «И в Посольском приказе… которого он города уроженец, и какова отца сын… после московского разоренья не сыскано»; «И грамоты у нас жалованные были и, по грехом по нашим, в московская разоренья згорели»; «...и те, государь, придачи затерялись в московское разоренье» (12). Замечу, однако, что «московское разоренье» не было синонимично понятию «смутное время», которым обозначали вполне конкретное событие, а не Смуту в целом.
Смутное время понималось современниками и как кризис духовности. События Смуты русские люди начала XVII века воспринимали как наказание за грехи всего народа. Мотив «общего греха», «греха всего православного христианства» проходит через документы эпохи Смуты красной нитью. Впервые о грехах как источнике бедствий Московского царства заговорили именно московские власти, и произошло это уже на исходе царствования Бориса Годунова. Крымскому посланнику в марте 1605 года было сказано, что «по грехом в польских во всех городех шатость…» (14). Постепенно расплывчатая формулировка «по грехом» уточнялась. В разрядных записях, описывающих борьбу царских войск с отрядами Болотникова, читаем: «По общему греху тогды воры… бояр побили и розганяли, что люди были не единомысленны».
Общим грехом всех христиан объяснялось появление первого самозванца. Эту мысль высказывали на переговорах в Польше в 1606 году русские дипломаты: «По греху всего хрестьянства пришол на Северскую землю богоотступник и еритик, страдник Гришка Отрепьев». В грамоте верхотурским воеводам писалось: «По грехом всего православного христианства собралися воры многие разбойники и казаки воровские, и учинили в земле смуту великую». Как вариант мог использоваться и оборот «грех всего государства»: «...зделалось то межусобное кровопролитье от воров для грабежу за грех всего государства». Характерно, что и в грамотах, исходящих из социальных низов, обнаруживается та же мысль о людском грехе как о первопричине Смуты. Рязанские посадские люди в августе 1611 года писали в своей челобитной: «Грех ради, государи, наших [зача]лась межюусобная брань» (2). Теми же самыми грехами объясняли трагические события Смуты и позднее: «...ведомо, что за грех всего православнаго христьянства… во всех наших великих Росийских государствах смута и рознь была»; «…по грехом в Росийском государстве учинилась… смута и рознь» (1, с. 95, 123). Практически во всех процитированных выше текстах «грех всего православного христианства», «общий грех» ассоциируются с «рознью», «междоусобной бранью», отсутствием «единомыслия».
Важной составляющей Смутного времени стала интервенция сопредельных держав, главным образом Речи Посполитой: «…по грехом в Росийском государстве учинилась полского короля и панов его рад умышленьем смута и рознь…» (1, с. 123); «...польской Жигимонт король… писал к Ивашку Зарутцкому, чтоб он в Московском государстве был и смуту всякими бесовскими прелестми делал, и государя нашего людей к себе на смуту приводил…» (15). Перешедший на российскую службу польский ротмистр Синявский также упоминал о том, как в 1612 году Сигизмунд III пытался связаться с атаманом Иваном Заруцким, «чтоб он, Ивашко, ему, королю, служил, в Московском государстве смуту чинил» (16).
Анализ высказываний очевидцев, современников и участников Смутного времени начала XVII века позволяет сделать вывод о том, что в их сознании бытовала следующая схема событий. Смута стала Божьим наказанием за «грех всего христианства», её первым проявлением были самозваные претенденты на российский престол. Питательным материалом всероссийского кризиса стали действия «воровских людей», под которыми подразумевали прежде всего казаков. Неотъемлемой составляющей Смуты стало вмешательство в междоусобную борьбу иноземцев. Кульминацией Смутного времени воспринимались события 1611– 1612 годов: сожжение Москвы поляками и освобождение столицы силами ополчения. Эти события остались в памяти очевидцев как «московское разоренье» и «московское очищенье».
Замечу, что русские люди начала XVII века не считали Смуту завершённой и после избрания на престол Михаила Романова, продолжая называть первые годы его царствования Смутным временем. Деструктивные силы, способствовавшие эскалации Смуты – воровские казаки и польско-литовские войска, не торопились уходить с исторической арены, а за московский престол боролись по-прежнему несколько претендентов. В 1617 году на переговорах английскому послу было сказано: «...ведомо ему, которой год в Московском государстве смута» (1, с. 122). Московское правительство продолжало употреблять понятие «смута» в своих обращениях к подданным и в 1618 году. Жителей Можайска царь Михаил призывал, в частности, «чтоб они, памятуя Бога… на литовские смуты не прельстились» (17, с. 394–395). В Коломну к казакам направили грамоту, имевшую целью опровергнуть царившие среди них панические слухи, которые «нехто вместил в люди на cмуту по засылке… которые ныне с литовским королевичем» (18).
Таким образом, мы можем констатировать: и после освобождения Москвы в конце 1612 года, и даже после избрания царём Михаила Фёдоровича Романова тяжёлые последствия Смуты в русском обществе ещё долго не были преодолены. Лишь прекращение негативного внешнего влияния, последовавшее за завершением войны с Речью Посполитой, позволило Московскому царству исцелиться и продолжить через XVII век свой прежний исторический путь.
Литература и источники
1. Посольская книга по связям России с Англией 1614–1617 гг. М., 2006.
2. Народное движение в России в эпоху Смуты начала XVII века, 1601– 1608 гг. Сб. документов. М., 2003., № 15, 17, 19, 20, 27, 30, 33, 47, 79.
3. Дело Т. Анкундинова. Европейский авантюрист из Московии. Будапешт, 2011.
4. Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА). Ф. 123. Сношения России с Крымом. Оп. 1. Д. 2 (1604 г.). Л. 7.
5. РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Д. 2 (1604 г.). Л. 157.
6. РГАДА. Ф. 79. Сношения России с Польшей. Оп. 1. Д. 6 (1610 г.). Л. 1.
7. РГАДА. Ф. 115. Кабардинские, черкесские и другие дела. Оп. 1. Д. 4 (1614 г.). Л. 5.
8. Бельский летописец // ПСРЛ. Т. 34. М., 1978.
9. РГАДА. Ф. 127. Сношения России с ногайскими татарами. Оп. 1. Д. 3 (1604 г.). Л. 195.
10. Станиславский А. Л. Гражданская война в России XVII в.: Казачество на переломе истории. М., 1990.
11. РГАДА. Ф. 127. Оп. 1. Д. 2 (1614 г.). Л. 2.
12. РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. Оп. 13. Д. 2. Л. 298.
13. РГАДА. Ф. 77. Сношения России с Персией. Оп. 1. Д. 1 (1617 г.). Л. 222; Ф. 141. «Приказные дела старых лет». Оп. 1. Д. 16 (1620 г.). Л. 1.
14. РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Д. 2 (1604 г.). Л. 157.
15. РГАДА. Ф. 111. Донские дела. Оп. 1. Д. 1 (1613 г.). Л. 105.
16. РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Д. 7. Л. 555.
17. Новый летописец.
18. РГАДА. Ф. 210. Оп. 11. Д. 3. Л. 41.