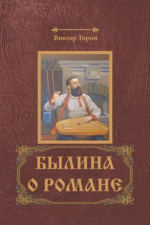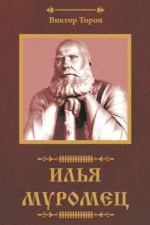Здесь находится корень реформаторства Владимира Соловьева: он верил в то, что воспитанием можно изменить человеческую природу, поскольку Божественным промыслом каждый человек неуклонно ведется к совершенству, потому философ считал единственно верной только активную социальную и гражданскую позицию. «Люди практические хотя и видят неудовлетворительность этого порядка (не видеть ее нельзя), — писал он об общественном устройстве, — но находят возможным и удобным применяться к нему, найти в нем свое теплое местечко, и жить, как живется. Другие люди, не будучи в состоянии примириться с мировым злом, но считая его, однако, необходимым и вечным, должны удовольствоваться бессильным презрением к существующей действительности, или же проклинать ее a la лорд Байрон. Это очень благородные люди, но от их благородства никому ни тепло, ни холодно. Я не принадлежу ни к тому, ни к другому разряду»2.
Соловьев видел, что большинство людей проводят жизнь в борьбе за существование, не задумываясь о причине такого мироустройства, при котором необходимо зубами вырывать кусок хлеба у собратьев по разуму. Понимал он также и то, что для христиан библейское проклятие подразумевает смиренное несение своего креста и надежду на Бога, который один может окончательно уничтожить зло, уже побежденное воскресением. Но юный Соловьев не собирался ждать второго пришествия, он полагал, что может и должен ускорить ход человеческой истории, указав человечеству цель всего исторического процесса и тем самым заставив его сознательно направить усилия на движение в нужном направлении. Тот, кто точно знает куда идет, безусловно, доберется до своей цели быстрее.
В своей дерзкой мечте и безграничном великодушии Соловьев видел исключительно прекрасную перспективу тварного мира. В неопубликованном при жизни философа юношеском трактате «София» он утверждал: «Любовь вселенской религии отличается от любви старого христианства, потому что последнее имеет свои пределы: Сатана и его царство; тогда как вселенская любовь безгранична, так как она включает самого Сатану как актуальное состояние души»3. Писал он это не в упрек «старому» христианству, поскольку считал, что «первоначальное христианство не было абсолютной религией, оно имело границы. Это границы — теоретические и практические. Первоначально христианство, которое было непосредственной победой над Духом хаоса (Сатаной), не могло быть беспристрастным к едва побежденному врагу. Будучи результатом борьбы, оно должно было сохранить следы борьбы и ненависти, особенно у умов более практических, чем созерцательных, у людей воли, а не разума (а таковых — большинство). Эти люди не могли увидеть в Сатане орудие божества, они видели в нем только врага божества: отсюда дуализм и разделение Царства Божьего и царства Сатаны, разделение человечества на избранных и осужденных, учение об аде и вечных муках — все эти нелепости и ужасы, которые привели к разрушению исторического христианства»4.
Соловьев считал, что, поскольку человечество — организм развивающийся, сознание его, выражающееся в первую очередь в учении Церкви, постепенно возрастает и совершенствуется. Отсюда вытекала его мысль о непременном догматическом развитии, предполагающем, что истина проясняется в сознании верующих постепенно, вместе с их духовным ростом. Исходя из этого философ считал, что «наивная идея наказания и вознаграждения должна быть, наконец, оставлена теологией: состояния страдания и ничтожества, необходимо связанные с исключительным самоутверждением индивида, так же как и блаженство личности, свободно отказывающейся от себя, принадлежат каждому индивиду: каждый индивид в этой или другой жизни должен пройти через ничтожество и боль, чтобы прийти к совершенству и счастью; высшее совершенство принадлежит всем существам, и каждое из них обладает этим совершенством согласно своему собственному характеру, так как совершенство не связано с одним определенным характером, но все могут им обладать, каждый по-своему»5.
Немногие решились поддержать Соловьева в этой части его учения, поскольку это означало бы столкновение с официальной Церковью. Рискнул, к примеру, Н. О. Лосский, который прямо написал: «Широко распространено среди христиан традиционное учение об аде, согласно которому бесчисленное множество людей после нескольких десятков лет жизни обречено на невыносимые муки, длящиеся безысходно в течение бесконечного времени. Мысль, что всеблагой Бог, обладающий всеведением, сотворил такие навеки несчастные существа, несостоятельна. Богословие и философия стоят перед задачею истолковать слова Иисуса Христа о вечных муках так, чтобы показать, что они вовсе не обязывают выработать учение о действительности вечно длящихся во времени мучений в аду»6.
Для юного Владимира Соловьева ни самого зла, ни ада просто не существовало, потому что в его понимании все призваны быть святыми и благой промысел не может предусматривать ничьих мучений, тем более вечных. Для Соловьева зло было лишь актуальным, т.е. нынешним состоянием души, которое посредством нравственного совершенствования должно быть изжито. Наш ад в нас самих, считал Соловьев, нас терзают наши пороки и несовершенства, а не Бог, которому не нужны ничьи мучения, но они необходимы нам для нашего исправления и воспитания.
Н. А. Бердяев справедливо отмечал, что «в первый период, когда Соловьев писал свои большие и наиболее систематические философские и богословские трактаты, он был слишком гностиком-идеалистом и христианство его было оптимистическое, розовое. Не чувствовал еще Соловьев всего ужаса и всей силы зла, не видел трагизма, со злом связанного. Зло понимал он слишком рационально, не мистически, зло истолковывал гностически, не подошел еще к последней тайне зла, зла бездонного, безосновательного, иррационального, непостижимого, из свободы рождающегося. Кажется даже, что для Соловьева зло было почти недоразумением, недостатком совершенства, ошибкой сознания и потому легко победимым»7.
Понимал и Соловьев, что сторонников у него в этом вопросе немного, поэтому и старался не высказываться на эту тему публично, оставляя, таким образом, за собой право на так называемое частное богословское мнение, которое не может называться ересью, если не выдается за учение Церкви. Трактат «София» не был Соловьевым опубликован, а в других своих работах он хотя и основывался на своем гностическо-теософском представлении о зле, но уже не формулировал так явно этот аспект своей философской системы. Правда, не обошлось без «горького опыта», который научил философа быть сдержаннее в своих высказываниях на столь щекотливые темы. Будучи человеком решительным и горячим, Владимир Соловьев во время публичных лекций о Богочеловечестве, которые он читал в 1878 г., открыто назвал церковное учение о вечных муках «гнусным догматом», чем вызвал целую бурю негодования. Впоследствии, при подготовке «Чтений о Богочеловечестве...» к печати, ему, конечно, пришлось убрать это утверждение по цензурным соображениям. Реконструировать последнее двенадцатое «Чтение...» в первоначальном виде удалось А. А. Носову8, который в 1992 г. восстановил его по обстоятельной рецензии, напечатанной по свежему впечатлению в газете «Голос».
В этой лекции ложность представления о вечных муках Владимир Соловьев обосновывал исходя из своего убеждения, что человечество может быть преображено лишь все целиком, что при наличии вечно мучающихся грешников невозможно. «Все существующее будет проникнуто Божественным началом. Бог, по выражению апостола, будет все во всем, и ни один элемент не останется вне Божественного организма. Развивая эту мысль, лектор подошел к вопросу о вечных мучениях, на которые, по сложившемуся в христианской Церкви учению, будет обречена часть человеческих существ. Это учение, по заявлению лектора, так очевидно противоречит разуму, нравственному чувству и духу христианской любви, что на опровержении его нет нужды останавливаться. Осуждение на вечные мучения хотя бы одного существа, сказал он, равносильно осуждению всех, т.к., в силу солидарности всех человеческих существ, страдание одних делается невозможностью блаженства для других»9.
Таким образом, представление Соловьева о тварном мире как о теле Бога, которое он развивал в «Чтениях о Богочеловечестве», действительно подразумевает его полное обожествление, иначе получается нелепая картина, когда зло вечно содержится в самом божественном организме. «Я был ревнитель правоверия, — признавался Владимир Соловьев в стихах, — И съела бы меня свинья10, — шутил он. — Но на границе лицемерия / Поворотил оглобли я. / <...> Стал либерал такого сорта я, / Таким широким стал мой взгляд, / Что снять ответственность и с черта я, / Ей-богу, был бы очень рад», — честно признавался он. Если подобным образом можно было бы устранить зло, являющееся помехой всеобщей духовной эволюции, Соловьев, вне всякого сомнения, сделал бы для этого все от него зависящее.
Его точка зрения на проблему происхождения и сущности зла менялась постепенно. В своих работах, посвященных вопросам метафизическим, философ утверждал, что не зло, а хаос является причиной несовершенства мира, преодоление и упорядочивание которого оказывается задачей исторического процесса. Однако уже в его работе «Россия и Вселенская Церковь» появляется учение о злых духах, которое намного ближе к традиционному христианскому пониманию зла. В этом труде Владимир Соловьев настаивал на свободе и сознательности тех духов, которые отвергли Бога. Он утверждал, что «свобода чистых духов далеко не сходна с той, которую мы знаем по нашему собственному опыту. Не будучи подчиненными объективным ограничениям материи, пространства и времени, а также всему механизму физического мира, ангелы Бога имеют власть предуставить все свое последующее бытие единым внутренним актом своей воли. Они свободны стать за Бога или против Него; но так как, по своей природе (в качестве непосредственных созданий Бога), они изначала владеют высокой степенью света и силы, то они действуют с полным пониманием дела и с полной действительностью успеха и не могут раскаиваться в своих поступках. В силу самого совершенства и величия их свободы, они могут применить ее лишь в одном решительном акте, раз навсегда. Внутреннее решение их воли, не встречая никакой внешней задержки, вызывает немедленно все свои последствия и исчерпывает свободу воли». Из этого философ делал вывод, что «противобожественная воля по необходимости вечна и безвозвратна (выделено мной. — И. Л.).То — бесконечная бездна, куда немедленно повергается мятежный дух, и откуда он может посылать свои лучи в присущем ему направлении, сквозь природный хаос, физическое творение и до пределов Божественного мира. Да ведь он и знал хорошо, определяясь против Бога, что в поле действия ему недостатка не будет; ибо Божественная воля уже вызвала тогда из небытия Душу мира, пробудив в ней хаотическое желание — основу и материю всего творения. Эта мировая душа есть неопределенный и необусловленный принцип .и она всегда будет в известной мере сообщать этот характер всему, что произойдет от нее. Так явится огромная смешанная среда, которая останется в колеблющемся положении между Богом и Его противником, доставляя сему последнему средства питать свою ненависть, осуществлять свой мятеж и продолжать свою борьбу. Его существование не будет поэтому неподвижным и пустым, ему дастся обильная и разнообразная деятельность, но общее направление и внутреннее качество всего, что он сделает, будут заранее определены первоначальным актом его воли, отделившим его от Бога. Изменить этот акт, вернуться к Богу для него безусловно невозможно (выделено мной. — И. Л.)»11.
До нас дошли свидетельства людей, близко знавших философа, из которых следует, что причина перемены в его мировоззрении была отнюдь не рациональной, что не интеллектуальным путем пришел он к этим умозаключениям и обновленное учение о сущности мирового зла было результатом осмысления нового для него мистического опыта, столкновения с иной открывшейся ему реальностью. Для исследователя (не для критика) важно то, что сам философ считал несомненным. Поскольку сверхъестественное было для мыслителя абсолютной реальностью и метафизика являлась основой всей его философской системы, необходимо принять во внимание данный фактор, не вдаваясь в рассмотрение его подлинности и реальности.
Многие современники считали Соловьева медиумом, верили в его сверхъестественные способности. Сохранились различные волнующие воображение рассказы об общении его с душами умерших. Но подобные видения и общение с духами только укрепляли его во мнении, что он прав относительно отсутствия ада и вечных мук. Однако со временем, а в последние два года жизни особенно, он ощутил жуткую реальность, сознательность и иррациональную ненависть настоящего, не выдуманного зла.
Был в биографии Соловьева период, когда он серьезно рассматривал для себя возможность принять монашеский постриг, ведь по строю своей внутренней жизни он был настоящим аскетом, т.е. подвижником12. Аскетическая практика стала частью обыденной жизни философа. С течением времени его «невидимая брань» становилась все ожесточеннее. Один из близких друзей мыслителя В. Л. Величко рассказывал, как «в первый день Пасхи Соловьев, войдя в каюту, увидел у себя на постели демона в виде мохнатого зверя. Соловьев обратился к нему уже не в шуточном тоне: “А ты знаешь, что Христос воскрес?” На это демон закричал: “Воскрес-то он воскрес, а тебя я все-таки доконаю”, — и кинулся на Соловьева. Философа нашли распростертым на полу без чувств»13.
Соловьев не всегда и не всем охотно рассказывал о своем духовном опыте. Е. Н. Трубецкой вспоминал, как однажды «среди оживленного разговора в ресторане за ужином он вдруг побледнел с выражением ужаса в остановившемся взгляде и напряженно смотрел в одну точку. Мне стало жутко, на него глядя. Тут он не захотел рассказывать, что, собственно, он видел, и, придя в себя, поспешил заговорить о чем-то постороннем»14.
Персонифицированность зла стала для Соловьева мучительной реальностью, и он подвергся самым разнообразным нападкам тех сил, факта существования которых он совсем недавно вообще не признавал. «Вчера я лежу в постели, — рассказывал он в присутствии племянника. — Горит свеча. Кто-то, кого я не вижу, гладит меня по руке и нашептывает мне весьма дурные вещи. Я вскакиваю с постели, начинаю его крестить и крестом выгонять за дверь»15.
Здравомыслящие друзья и родственники, для которых потусторонняя реальность была чем-то гипотетическим, стремились затушевать, а иногда и прямо скрыть эти факты из жизни философа. Так поступил его младший брат Михаил. По свидетельству С. Маковского, «Михаил Сергеевич после смерти брата, когда вскрыл посылавшиеся им на хранение пакеты, в этих пакетах обнаружил записи о том, как подобно Иисусу Христу умиравший философ искушался диаволом. Эти записи ужаснули религиозного Михаила Сергеевича, в них рассказывалось о ежедневных “возмутительных” беседах с чортом, внешность которого тоже описывалась в подробностях. Вследствие компрометирующего содержания этих записей решено было на семейном совете сжечь их и никому не говорить ни слова»16.
Между тем непривычным был, скорее, контекст этих явлений, а вовсе не содержание, которое совпадает с опытом христианских подвижников. Это-то и казалось чуть ли не кощунством: не святой старец, спасающийся в пустыне, подвергается нападению нечистой силы, а какой-то литератор, который любит анекдоты и неравнодушен к сладкому и даже к вину. Польский исследователь Я. Красицкий верно замечает по этом поводу, что «для правильного понимания демонического опыта Соловьева последних двух лет его жизни не имеет никакого значения тот факт, что с духовной демонической реальностью ему пришлось бороться близ побережья Финляндии и во время второго путешествия в Египет, а не в обстоятельствах, с которыми мы сталкиваемся, читая apoftegmata Отцов-пустынников»17.
Христос — это война со злом, это победа над ним. София — примирение всех и вся в ее материнском лоне. В начале жизни Соловьев, испытавший в видении Софии блаженное состояние без вражды, не мог и не хотел погружаться снова в мир хаоса и бесконечной борьбы. Властно вторгшаяся в его внутренний мир действительность заставила его оторваться от созерцания прекрасного лика Софии. Ощутив реальную силу зла, Соловьев пришел к выводу, что катастрофа неизбежна, что развязка исторического процесса будет апогеем трагедии. Решительное вторжение в сознание философа агрессивной и, несомненно, сознательной враждебной силы не могло не отразиться на его мировоззрении. Ему пришлось признать, что он сильно недооценивал значение зла в истории человечества. В связи с этим в литературе утвердилось мнение, будто в конце жизни философ разочаровался во всех своих главных идеях: в возможности осуществления всеединства, теократии, соединения Церквей и отрекся от всех своих прежних взглядов. Например, Г. П. Федотов утверждал, что в последнем своем произведении Соловьев «отрекается от того, чему служил всю свою жизнь: от идеала христианской культуры»18. Биографы Соловьева на этом основании выделяют последние годы жизни философа в отдельный период «разочарования» и «крушения». В качестве главного аргумента обычно указывают на «Краткую повесть об антихристе», где все основные идеи Владимира Соловьева (всеединство, теократия, примирение Церквей) помогают воцарению Антихриста. Это обычно расценивается как акт покаяния философа, который осознал вредность и ложность своих прежних представлений и подобным образом сам разоблачил их суть.
Между тем анализ текста «Краткой повести…» показывает обратное. Так, соединение различных конфессий происходит, но лишь после того, как число их членов катастрофически сокращается. Возможно, таким образом Соловьев хотел показать, что соединение Церквей могло бы произойти и в современную ему эпоху, если бы они состояли только из верных. Препятствуют же этому благому делу те, кто по сути своей христианами не являются, и пришествие Антихриста явно обнаруживает этот факт. «Надо быть готовым к тому, что девяносто девять священников и монахов из ста объявят себя за антихриста»19, — писал он. Эти, по мнению философа, потенциальные враги христианства и разрушают церковное единство, раздирают единое тело на части. Поэтому отношения Церквей в современную ему эпоху Соловьев называл «антихристианскими»20 и считал, что «бороться нужно не против какого-нибудь вероисповедания или церкви, а единственно против антихристианского духа, где бы и в чем бы он ни выражался»21.
Что же касается реального исторического единения человечества, то в «Краткой повести...» оно происходит уже не благодаря Вселенской церкви, а усилиями Антихриста. Это удается ему потому, что «всякому одностороннему мыслителю или деятелю легко будет видеть и принять целое лишь под своим частным наличным углом зрения, ничем не жертвуя для самой истины, не возвышаясь для нее действительно над своим я, нисколько не отказываясь на деле от своей односторонности, ни в чем не исправляя ошибочности своих взглядов и стремлений, ничем не восполняя их недостаточность». «Ведь для того, чтобы быть принятым, — добавляет Соловьев, — надо быть приятным»22. Тем самым он признает, что неудача его начинания была обусловлена тем, что люди, от которых зависели реальные шаги, способные привести к воссоединению, не хотели меняться, не хотели ничем жертвовать для осуществления этого дела. Антихристово добро не требует от человека никакой жертвы — объединение происходит механически и разнородное в потенции остается враждебным друг другу. Подлинное единство возможно только в любви. В христианской Церкви именно любовь соединяет людей в мистическое тело Христово, невзирая на социальные, национальные и прочие различия, поэтому христианство в историософской концепции Соловьева это «нравственно-историческая задача»23, а не данность, к которой нужно всего лишь присоединиться. Это работа, которую еще необходимо проделать. «Если бы человечество представляло собою простую арифметическую сумму отдельных изолированных лиц, то все препятствия к полному осуществлению царствия Божия сводились бы, собственно, к одному: к злой личной воле. Все действие Божие в человечестве было бы в таком случае прямо и исключительно обращено на каждую отдельную душу, которая или воспринимала бы это действие и входила в Царствие Божие, или отвергала бы его. Решение этого вопроса, безусловно отдельное для каждой души, могло бы произойти вне пространства и времени, всемирная история была бы совершенно не нужна и жизнь — бессмысленна. К счастию, человечество не есть куча психической пыли, а живое одушевленное тело, …последовательно и закономерно развивающееся...»24 — считал философ.
Итак, оказалось, вопрос о зле имел основополагающее значение для историософской концепции Владимира Соловьева. Когда его точка зрения на этот предмет кардинальным образом изменилась, акценты в его «теории мирового процесса» также существенно сместились. Философу пришлось признать, что самое главное проявление зла — смерть — не может быть побеждено человеком, поскольку «действительная победа над злом в действительном воскресении. Только этим, повторяю, открывается и действительное Царство Божие, а без этого есть лишь царство смерти и греха и творца их, диавола. Воскресение — только не в переносном смысле, а в настоящем — вот документ истинного Бога»25.
Неверно было бы сказать, что Владимир Соловьев «вернулся» к Евангелию, ведь он никогда не отрицал истинности Священного Писания и пророчеств Апокалипсиса, но совершенно очевидно, что он толковал их в соответствии со своим оптимистическим взглядом на завершение исторического процесса. В небольшой работе под названием «Русская идея», относящейся к периоду увлечения Соловьева проповедью теократии, его изложение христианской концепции истории выглядело следующим образом: «Если взять нашу христианскую Библию, собрание книг, начинающееся книгой Бытия и кончающееся Апокалипсисом, и разобрать ее помимо каких бы то ни было религиозных убеждений, как простой исторический и литературный памятник, то мы принуждены будем признать, что перед нами произведение законченное и гармоничное: создание неба и земли и падение человечества в лице первого Адама — в начале, восстановление человечества в лице второго Адама, или Христа, — в центре, и в конце апокалиптический апофеоз, создание неба нового и земли новой “в них же правда живет”, откровение преображенного и прославленного мира, Нового Иерусалима, нисходящего с небес, скинии26, где Бог с людьми обитает (Апок. XXI). Конец произведения связан здесь с началом, создание мира физического и история человечества объяснены и оправданы откровением мира духовного, представляющего совершенное единение человечества с Богом. Дело завершено, круг замкнулся, и даже с чисто эстетической точки зрения ощущается удовлетворение»27.
Бросается в глаза, что «апокалиптическим апофеозом» Соловьев называет здесь не торжество зла, не пришествие Антихриста, а преображение мира и соединение человечества с Богом. На тот момент Соловьев, по его собственному выражению, еще «не дозрел до серьезной веры в будущего живого антихриста». Слова эти относились к Фридриху Ницше, чьи заблуждения, очевидно, напоминали Соловьеву его собственные прежние ошибки, возможно поэтому он был к нему так снисходителен. «Разве не прав несчастный Ницше, — писал он, — когда утверждает, что все достоинство, вся ценность человека в том, что он — больше чем человек, что он — переход к чему-то другому, высшему? Но Ницше не сделал из этой “правды” нужных выводов, не вспомнил, как сделал это апостол Павел, обращаясь к афинянам, о действительном сверхчеловеке, праведнике, воскресшем из мертвых; “чуждый” вере христианской и еще не дозревший до серьезной веры в будущего живого антихриста, базельский профессор стал писать о сверхчеловеке вообще. Каждый из нас есть сверхчеловек в возможности, потенциально, но чтоб стать таким в действительности, требуется конечно более твердая опора, чем соответственное желание или отвлеченная мысль»28.
В последнем своем произведении «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории», куда входит «Краткая повесть об антихристе», Соловьев как раз и восстает против христианства без Христа и Евангелия, «без того блага, о котором стоило бы возвещать, именно без действительного воскресения в полноту блаженной жизни»29. Философ с тревогой наблюдал, как под разными благовидными личинами появляются враги Христа, называющие себя при этом христианами. Христианство, как верно заметил Владимир Соловьев еще в юности, оказалось универсальной основой для самых разных идей. Евангельское учение легко превращалось в самодостаточные «общечеловеческие ценности» и подменялось неким абстрактным нравственным учением. И вот уже и Христос для такого христианства становился не нужен, так сказать, «оставался за скобками» христианской культуры, в которой место Бога занимал человек, примеряющий на себя роль Мессии — спасителя и преобразователя человечества. Соловьев признавался: «Мне трудно вам передать, с каким особым удовольствием я гляжу на явного врага христианства. Чуть не во всяком из них я готов видеть будущего апостола Павла, тогда как в иных ревнителях христианства поневоле мерещится Иуда-предатель»30.
Всякое чудо, в том числе и воскресение, стало восприниматься как метафора, аллегория. Даже в Церкви «не видеть» стало религиозной нормой. Способность созерцать метафизическую реальность, жить в ней стала расцениваться как дерзкая попытка присвоить себе славу древних святых и подвижников. В контексте христианской культуры, отвергающей возможность евангельского чуда в условиях современности, Соловьев с его проповедью о реальном пришествии антихриста выглядел каким-то реликтом. Все евангельские идеи были уже переосмыслены в духе гуманизма, приспособлены к потребностям «нового религиозного сознания», и тут ретроград Соловьев принимается воскрешать самые дремучие, самые «неинтеллигентные» элементы христианского учения.
Однако, признав зло сознательным и реальным, Владимир Соловьев тем самым признал первоочередной задачей «священную войну» с ним. «Когда люди, думающие и потихоньку утверждающие, что Христос устарел, превзойден, или что его вовсе не было, что это — миф, выдуманный апостолом Павлом, вместе с тем упорно продолжают называть себя “истинными христианами” и проповедь своего пустого места прикрывать переиначенными евангельскими словами, тут уж равнодушие и снисходительное пренебрежение более не у места: ввиду заражения нравственной атмосферы систематическою ложью общественная совесть громко требует, чтобы дурное дело было названо своим настоящим именем»31, — заявлял он. Соловьев признавался, что «и сам не сразу разобрал, в чем тут дело (выделено мной. — И. Л.); но теперь уже для меня нет никаких сомнений, и вы поймете, с каким чувством я должен смотреть на то, что я считаю обманчивой и соблазнительной личиной добра»32, — замечал философ.
Одна из центральных идей «Краткой повести об антихристе» в том, что видимое добро и благо могут оказаться самым страшным злом. Правда, тем, кто пережил события первой половины ХХ в., «добрый» Антихрист мог показаться слишком тонкой подменой. Например, по мнению Г. П. Федотова, представления Соловьева об Антихристе слишком наивны и с точки зрения ХХ в. безнадежно устарели, что Соловьев и вообразить не мог тех форм и масштабов, того цинизма, с которым обнаружит себя зло в новейшую эпоху. В противоположность соловьевскому персонажу Антихрист ХХ столетия «перестал носить маску гуманизма, т.е. человеческого добра. Враждебная христианству цивилизация в самых разнообразных проявлениях своих становится антигуманистической, бесчеловечной. Бесчеловечна техника, давно отказавшаяся служить комфорту ради идеи самодовлеющей производительности, пожирающей производителя. Бесчеловечно искусство, изгнавшее человека из своего созерцания и упоенное творчеством чистых, абстрактных форм. Бесчеловечно государство, вскрывшее свой звериный лик в мировой войне и теперь топчущее святыни личной свободы и права в половине европейских стран. Бесчеловечны (принципиально, т.е. антигуманистичны) одинаково и коммунизм, и фашизм, рассматривающие личность как атом, завороженные грандиозностью масс и социальных конструкций»33.
Существует такое объяснение происхождения идеи об Антихристе-перевертыше: будто бы в лице Антихриста Владимир Соловьев изобразил самого себя. Ведь и о самом философе можно было бы сказать: «Он был еще юн, но благодаря своей высокой гениальности к тридцати трем годам широко прославился как великий мыслитель, писатель и общественный деятель. Сознавая в самом себе великую силу духа, он был всегда убежденным спиритуалистом, и ясный ум всегда указывал ему истину того, во что должно верить: добро, Бога, Мессию. <…> Помимо исключительной гениальности, красоты и благородства высочайшие проявления воздержания, бескорыстия и деятельной благотворительности, казалось, достаточно оправдывали огромное самолюбие великого спиритуалиста, аскета и филантропа. И обвинять ли его за то, что, столь обильно снабженный дарами Божиими, он увидел в них особые знаки исключительного благоволения к нему свыше и счел себя вторым по Боге, единственным в своем роде сыном Божиим»34.
Сдается, если бы Владимир Соловьев действительно обнаружил бы, что всю жизнь занимался тем, что готовил путь грядущему антихристу, при своей прямоте и искренности он публично покаялся бы в этом и прямо назвал бы свои прежние убеждения ложью. Однако в «Краткой повести...» он изображает ложными не сами идеи, а их применение. Неспособность человечества к воплощению подлинного всеединства, нежелание духовной работы и подвига, без которых настоящее всеединство недостижимо, делают его легкой добычей антихриста, предложившего ему вместо христианского единства «равенство всеобщей сытости».
Соловьев постоянно возвращает читателя к исходной точке противостояния, напоминая, что зло — реальность, а не абстракция. «Есть ли зло только естественный недостаток, несовершенство, само собою исчезающее с ростом добра, или оно есть действительная сила, посредством соблазнов владеющая нашим миром, так что для успешной борьбы с нею нужно иметь точку опоры в ином порядке бытия?»35 — спрашивает он в предисловии к «Трем разговорам...».
«Три разговора…» — это манифест, призывающий к битве. Весь первый «разговор» посвящен «оправданию» войны и обличению толстовского учения о непротивлении злу насилием. Соловьев опровергает мнение, будто противление злу есть такое же зло, а потому с христианской точки зрения оно якобы неприемлемо. Затем указывает на нелепость того взгляда, что война будто бы устарела, поскольку современное развитие человечества позволяет разрешить все конфликты без войн. «Я вот, например, вполне признаю безусловную противоположность между нравственным добром и злом»36, — решительно утверждает он. Безусловная противоположность подразумевает борьбу как обязанность всякого религиозного человека, она обнажает тот факт, что эта война в историческом измерении прекратиться не может. «Война до конца» — это новая черта в историософской концепции Соловьева. Война, потому что борьба со злом не прекратится до самого конца истории, потому что окончательная победа добра невозможна в историческом измерении. Все, чего может достичь проповедь всеединства в сложившихся исторических условиях, — это даже не объединение, а сотрудничество христианских государств. «Если прекращение войны вообще я считаю невозможным раньше окончательной катастрофы, то в теснейшем сближении и мирном сотрудничестве всех христианских народов и государств я вижу не только возможный, но необходимый и нравственно обязательный путь спасения для христианского мира от поглощения его низшими стихиями»37, — писал он.
Однако главной целью написания «Трех разговоров...» было указание на неизбежность конца истории. Для Соловьева история всегда была только «процесс», ценность которого не в нем самом, а в том результате, который получается в итоге. «Эти “разговоры” о зле, о военной и мирной борьбе с ним должны были закончиться определенным указанием на последнее, крайнее проявление зла в истории, представлением его краткого торжества и решительного падения (выделено мной. — И. Л.)»38.
Следует обратить внимание на то, что Соловьев вовсе не считал, что окончанием человеческой истории будет полная и решительная победа зла. Апогей исторического процесса в его интерпретации — это окончательное крушение зла в мире. История заканчивается не торжеством антихриста, а его полным поражением, после чего начинается новая, «софийная» история. В «Трех разговорах…» Соловьев уже определенно утверждает, что Царство Божие «хотя будет и на земле, но лишь на новой земле, любовно обрученной с новым небом»39. Таким образом, зло в историософской концепции Соловьева торжествует, но финалом истории оказывается все-таки крушение зла. Зло во всеедином организме человечества настолько неотличимо порой от добра, что для того, чтобы его можно было полностью уничтожить, оно должно стать очевидным, должно проявиться во всей своей силе.
Верный своему представлению о предопределенности исторического процесса, своей вере, что он управляется метафизическими законами, Соловьев утверждал, что «еще много будет болтовни и суетни на сцене, но драма-то уже давно написана вся до конца, и ни зрителям, ни актерам ничего в ней переменять не позволено»40. Его поразительная интуиция подсказала ему то, что для его современников было совсем не очевидно, зато понятно в исторической перспективе при взгляде из XXI в. Острое чувство историзма не обмануло Владимира Соловьева, который утверждал, что наступает новая эпоха в истории человечества: «Кто, в самом деле, уразумел, что старого нет больше и не помянется, что прежняя история взаправду кончилась, хотя и продолжается в силу косности какая-то игра марионеток на исторической сцене? Кто понял, что наступившая ныне историческая эпоха настолько же, — нет, гораздо больше удаляется от всех наших вчерашних исторических забот и вопросов, как время великой революции и Наполеоновских войн было по существу интересов далеко от эпохи войн за испанское наследство, или как у нас в России Петровский и Екатерининский век неизмеримо перерос дни московских великих князей. Что сцена всеобщей истории страшно выросла за последнее время и теперь совпала с целым земным шаром, — это очевидный факт»41. Соловьев не брался предсказывать, как долго продлится этот завершающий период истории, но новое качество наступающей исторической эпохи он отлично уловил. «Историческая драма сыграна, и остался еще один эпилог, который, впрочем, как у Ибсена, может сам растянуться на пять актов. Но содержание их в существе дела заранее известно»42, — решительно утверждал он.
Философ осознал, что катастрофа в конце всемирной истории неизбежна. Он искал силу, которая может олицетворять собой грядущий хаос, и остановил свой мысленный взгляд на Китае, видя в нем воплощение всего того, что пугает просвещенную цивилизованную Европу. Думается, что он исходил именно из этих соображений, когда в качестве карающей руки избрал азиатов. Христианские ценности им незнакомы, они «чужие» по духу, непонятные и жестокие. Их нашествие грозит смести весь христианский мир с его общечеловеческими ценностями, правами человека, социальными достижениями. Возможно, здесь была и ассоциация с монгольским нашествием. Во всяком случае, Соловьев теперь не исключал возможности того, что Россия и Европа будут поставлены в зависимость от власти нехристианской, а может быть, и вовсе утратят свою государственность. «И желтым детям на забаву / Даны клочки твоих знамен», — предрекал он.
Соловьев грезил о христианской цивилизации и пришел к выводу, что для осуществления ее безбожный мир и нехристианская культура должны исчезнуть. Сначала он считал, что, не встречая никакого реального противодействия, Царство Божие будет постепенно проявляться в мире, пока все человечество не станет единым Богочеловеческим организмом. Теперь ему пришлось признать, что это всего лишь возможность, дремлющая в теле исторического человечества, и что более активно и успешно в нем действует противоположное начало.
В своем последнем труде Соловьев сделал ряд довольно точных прогнозов, что лишний раз подчеркивает его значение именно как историософа. Так, в предисловии к «Трем разговорам...» Соловьев отмечает: «Мне кажется, что успех панмонголизма будет заранее облегчен тою упорною и изнурительною борьбою, которую некоторым европейским государствам придется выдержать против пробудившегося Ислама в Западной Азии, Северной и Средней Африке»43. В начале «Краткой повести» он также повторяет, что перед катастрофическим по своим последствиям нашествием азиатов Европа будет «занята последнею решительною борьбою с мусульманским миром»44. Для победы европейцам придется преодолеть свою главную слабость — национальную и политическую раздробленность, и Соловьев предсказывал появление «соединенных штатов Европы».
Неизвестно, что подсказало Соловьеву подобный сценарий европейской истории ХХ в. Было ли это проявлением глубокой интуиции или необыкновенной аналитической способности его ума, позволившей из наблюдения современных ему тенденций сделать подобный прогноз развития ситуации. Однако приходится признать, что в целом его прогноз был верен. Внешняя угроза порабощения чуждой европейскому духу диктатурой сначала обнажила слабые места старого, исключительно национального устройства, а затем заставила Европу ступить на путь отказа от узконациональных интересов и объединения народов.
Соловьев был убежден, что все эти внешние события приведут к тому, что в результате исторических потрясений должно сформироваться новое европейское мировоззрение: «...предметы внутреннего сознания — вопросы о жизни и смерти, об окончательной судьбе мира и человека, — осложненные и запутанные множеством новых физиологических и психологических исследований и открытий, остаются по-прежнему без разрешения. Выясняется только один важный отрицательный результат: решительное падение теоретического материализма. Представление о Вселенной как о системе пляшущих атомов и о жизни как результате механического накопления мельчайших изменений вещества — таким представлением не удовлетворяется более ни один мыслящий ум. Человечество навсегда переросло эту ступень философского младенчества. Но ясно становится, с другой стороны, что оно также переросло и младенческую способность наивной, безотчетной веры. Таким понятиям, как Бог, сделавший мир из ничего и т.д., перестают уже учить и в начальных школах. Выработан некоторый общий повышенный уровень представлений о таких предметах, ниже которого не может опускаться никакой догматизм. И если огромное большинство мыслящих людей остается вовсе неверующими, то немногие верующие все по необходимости становятся и мыслящими, исполняя предписание апостола: будьте младенцами по сердцу, но не по уму»45. Однако это, с точки зрения Соловьева, не спасет человечество от обольщения антихристовым добром.
В. Л. Величко вспоминал, что за два месяца до смерти Соловьев говорил о своей «Краткой повести...»:
«— А как Вы думаете, что будет мне за это?
— От кого?
— Да от заинтересованного лица! От самого!
— Ну, это еще не так скоро.
— Скорее, чем Вы думаете».
А за полтора месяца до своей кончины философ рассказывал, что ему «даже странно видеть беспрепятственный, торжественный чин богослужения. Я чую близость времен, когда христиане будут опять собираться на молитву в катакомбах, потому что вера будет гонима, — быть может, менее резким способом, чем в нероновские дни, но более тонким и жестоким: ложью, насмешкой, подделками, да мало ли еще чем! Разве ты не видишь, кто надвигается? Я вижу, давно вижу!»46
Польский исследователь Я. Красицкий называет «Три разговора...» «историософской манифестацией духовного опыта, полученного философом во время его второго путешествия в Египет в 1898 г.»47 Действительно, нужно признать, что побудительным мотивом создания этой работы стало прямое столкновение Владимира Соловьева с фактом существования персонифицированного зла. Обсуждать достоверность этого опыта бессмысленно, поскольку никаких формальных критериев для оценки метафизических феноменов у науки нет. Однако пренебрегать на этом основании самим фактом решительного влияния нерациональных мотивов на трансформацию мировоззрения Владимира Соловьева недопустимо.
Владимир Соловьев отказался от мысли, что осуществление Царства Божьего возможно в историческом измерении, но не перестал верить, что оно осуществится в будущем веке, когда будут «новое небо и новая земля». Его историософская концепция претерпела лишь несущественное изменение: смысл и цель исторического процесса остались прежними — обожение всего человечества и преображение всего творения, только осуществление этого стало не окончанием истории, как он полагал прежде, а было вынесено за ее рамки. Причиной подобной трансформации стало изменение отношения философа к проблеме зла. Если в начале своего творческого пути Соловьев расценивал зло как временное, «возрастное» состояние становящегося всечеловеческого организма, которое в процессе его развития неизбежно будет изжито, то впоследствии ему пришлось скорректировать свою точку зрения. Это не значит, что он признал зло вечным, однако полную победу над ним он стал считать для исторического человечества невозможной, в силу чего изменилось его представление и о конце истории, который теперь был не торжеством Божественного замысла, а временной победой зла и катастрофой, которая, однако, влекла за собой и окончательное поражение зла, и завершение на этом истории человечества.
Таким образом, Владимир Соловьев, поставив перед собой цель сформулировать универсальную теорию мирового процесса, до конца жизни разрабатывал свою историософскую концепцию, которая является важнейшей частью его учения о судьбе мира. Для формулирования этой теории он использовал свой собственный духовный мистический опыт, а также элементы тех учений и философских концепций, которые, как он считал, были отражением софийного влияния на человеческое сознание. При этом он обращал особое внимание на тот факт, как в той или иной системе ставится проблема зла. Отрицание персонифицированного зла и вечных мук расценивалось им как несомненное достоинство учения, утверждение же реального существования ада и ненавидящих человека злых сил он считал признаком несовершенства, недостаточного развития сознания авторов концепции, которое еще не достигло того уровня, когда ясно видно, что зло лишь тень, которая исчезает при свете.
Причиной изменения его точки зрения на этот вопрос стал опять-таки его личный духовный опыт. Многочисленные свидетельства близких философу людей, а также его собственные высказывания не оставляют в этом никаких сомнений.
Нужно отметить, что торжество зла Владимир Соловьев видел временным и подчеркивал, что за ним должно непременно следовать его окончательное крушение. Он подразумевал, что для окончательной победы над злом оно должно полностью обнаружить себя во всей полноте. В истории это отразится как его кратковременное торжество, однако падение его неизбежно, подчеркивал философ. Таким образом, он нисколько не отступил от своего представления о том, что исход исторического процесса давно предрешен и что хотя развязка истории будет ознаменована катастрофическими событиями, однако касаться они будут только исторического человечества. Не отступил он и от своего исторического оптимизма, полагая, что крайнее проявление и временное торжество зла лишь пролог к истинному концу истории, а именно — полному поражению зла и установлению Царствия Божьего, которое и есть истинный венец всемирной истории человечества.
Для многих современников Соловьева все эти тонкости были лишь интеллектуальной игрой талантливого философа. Как вспоминал А. Амфитеатров: «Удивил нас Соловьев. Разговорился вчера. Ума — палата. Блеск невероятный. Сам — апостол апостолом. Лицо вдохновенное, глаза сияют. Очаровал нас всех. Но. доказывал он, положим, что дважды два четыре. Доказал. Поверили в него, как в бога. И вдруг — словно что-то его защелкнуло. Стал угрюмый, насмешливый, глаза унылые, злые. — А знаете ли, — говорит, — ведь дважды два не четыре, а пять? — Бог с вами, Владимир Сергеевич! Да вы же сами нам сейчас доказали. Мало ли что — “доказал”. Вот, послушайте-ка. — И опять пошел говорить. Режет contra, как только что резал pro, пожалуй, еще талантливее. Чувствуем, что это шутка, а жутко как-то. Логика, острая, неумолимая, сарказмы страшные. Умолк, — мы только руками развели: видим, действительно, дважды два — не четыре, а пять»48.
Однако время интеллектуальных упражнений заканчивалось. «Повесть об антихристе» органично вписалась в контекст эпохи с ее апокалиптическими катастрофами: революциями, войнами, крушением привычного мира. «Я в пророки возведен врагами...» — предупреждал Владимир Соловьев. Не слепой веры, не звания пророка и не поклонения ждал он — философ мечтал о разумном человечестве, которое, поняв неумолимую логику духовных законов, управляющих историей, сознательно вступит на путь, ведущий к его прямой цели, а не к катастрофе.
Примечания
- Письма Владимира Сергеевича Соловьева / Под ред. Э. Л. Радлова. Т. III. СПб., 1911. С. 88.
- Там же.
- Соловьев В. С. София // В кн.: Козырев А. П. Соловьев и гностики. М., 2007. С. 490.
- Там же. С. 487‒488.
- Там же. С. 439.
- Лосский Н. О. В защиту Владимира Соловьева // Новый журнал. 1953. № 33. С. 233.
- Бердяев Н. А. Проблема Востока и Запада в религиозном сознании Вл. Соловьева // Собрание сочинений. Т. 3. Париж: YMCA-PRESS, 1989. С. 216.
- Носов А. А. Реконструкция двенадцатого «Чтения по философии религии» В. С. Соловьева // Символ. 1992. № 28.
- Там же. С. 248.
- По признанию самого Владимира Соловьева, его любимой поговоркой было «Бог не выдаст, свинья не съест».
- Соловьев В. С. Россия и Вселенская Церковь. Кн. 3. Гл. 5 // Библиотека «Вехи». http://www.vehi.net/soloviev/vselcerk/35.html
- В переводе с древнегреческого «аскеза» и означает борьбу, подвиг. Церковнославянское слово «подвижник» является калькой древнегреческого «аскет».
- Цит. по: Соловьев С. М. Владимир Соловьев: Жизнь и творческая эволюция. М., 1997. С. 338.
- Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. Т. 1. М., 1913. С. 20.
- Соловьев С. М. Указ. соч. С. 330.
- Маковский С. Последние годы Владимира Соловьева // На Парнасе «Серебряного века». Мюнхен, 1962. С. 57.
- Красицкий Ян. Апокриф нашего времени. Новое прочтение «Краткой повести об антихристе» Владимира Соловьева // Соловьевские исследования: Периодический сборник научных трудов. Вып. 6. Иваново, 2003. С. 175.
- Федотов Г. П. Об антихристовом добре // Путь. 1926. № 5. С. 55.
- Цит. по: Соловьев С. М. Указ. соч. С. 322.
- Там же. С. 319.
- Письма. Т. III. С. 199.
- Соловьев В. С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об антихристе и с приложениями. М., 1991. С. 162.
- Соловьев В. С. Из философии истории // Сочинения в двух томах. М., 1989. Т. 2. С. 332.
- Там же. С. 333.
- Соловьев В. С. Три разговора. С. 145.
- Здесь Соловьев опять-таки подразумевает Софию — скинию (Шехину), в которой Бог соединяется с человечеством.
- Соловьев В. С. Русская идея // Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1989. С. 223.
- Соловьев В. С. Воскресные письма // Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1911. Т. Х. С. 28‒32.
- Соловьев В. С. Три разговора. С. 6.
- Там же. С. 146.
- Там же. С. 6‒7.
- Там же. С. 144.
- Федотов Г. П. Указ. соч. С. 62.
- Соловьев В. С. Три разговора. С. 156‒157.
- Там же. С. 5.
- Там же. С. 25.
- Там же. С. 11.
- Там же. С. 10.
- Там же. С. 142.
- Там же. С. 188.
- Соловьев В. С. По поводу последних событий (письмо в редакцию) // Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1911. Т. Х. С. 224.
- Там же. С. 226.
- Соловьев В. С. Три разговора. С. 11‒12.
- Там же. С. 150‒151.
- Соловьев В. С. Три разговора. С. 155‒156.
- Величко В. Л. Вл. Соловьев. Жизнь и творения. СПб., 1902. С. 167‒168.
- Красицкий Ян. Указ. соч. С. 175.
- Цит. по: Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 2000. С. 526.
[*] Кандидат исторических наук, Институт российской истории РАН.