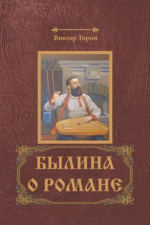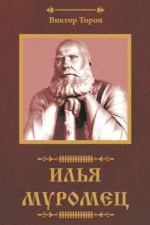Более закрытой и потому менее изученной остается интимно-личностная сфера. В нее входит, в частности, мир религиозных представлений историков, в которых отражена Вечность. Не претендуя на всестороннее и всеобъемлющее освещение этой темы, намечу лишь некоторые ее контуры. Речь пойдет о том, какое место в жизни и деятельности советских историков двух первых поколений — «старой профессуры» и историков-марксистов2 — занимали православная вера и православные традиции.
Следует сразу сказать, что даже в личных документах этих групп историков — переписке, дневниках, воспоминаниях — такого рода свидетельств немного. Особенно это относится к ученым генерации «красных профессоров», которые в значительно большей степени отдавали дань атеизму и новым формам устройства общественной и частной жизни. Помимо этого они были еще более, в сравнении с предшествующим поколением, закрытыми в выражении своих взглядов на веру и ее атрибуты. Однако, суммируя скупые и разрозненные данные, можно попытаться воссоздать эту сторону собирательного образа двух первых поколений советских историков.
В начале ХХ в. более 80% российской профессуры были православными, порядка 16% составляли лютеране и католики и около 2% принадлежали к иным конфессиям3. По данным на 1916 г., примерно такие же цифры характеризуют и московскую профессуру (соответственно 86,7, 11,6 и 1,5%)4. Сразу же оговоримся, что принадлежность историков к той или иной религиозной конфессии не обязательно и не всегда характеризовала их отношение к вере.
В жизнь историков «старой школы» религия входила как естественный элемент воспитания. Ко многим из них были вполне применимы строки из пушкинского «Евгения Онегина»:
Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод;
В день Троицын, когда народ,
Зевая, слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слезки три.5
Православная обрядность, изучение Закона Божия в гимназические годы были частью их повседневности. Многие из них к тому же происходили из духовного сословия. Академик М. К. Любавский (1860‒1936), известный своими трудами по истории славянства, Литовского княжества, исторической географии и архивоведения, родился в семье сельского дьячка. На девятый день его крестили в местной церкви и в честь святого апостола Матфея назвали Матвеем. Отец, дед и дядя будущего историка, также священствовавший в соседнем селе, были его первыми учителями и готовили мальчика к духовной карьере.
Призвание к изучению прошлого своей страны побудило М. К. Любавского сдать экстерном экзамены за курс Рязанской духовной семинарии, в которой он обучался, и поступить на историко-филологический факультет Московского университета. Однако в течение всей своей жизни М. К. Любавский оставался человеком верующим, чтившим нравственные заветы христианства6.
Глубоко религиозным человеком предстает в своих дневниках академик М. М. Богословский (1867‒1929), блестящий знаток эпохи и деяний Петра Великого. Его отец окончил Московскую духовную семинарию и, хотя впоследствии сделал чиновную карьеру, воспитывал своих детей в духе почитания православия и Церкви, соблюдения патриархальных обычаев и устоев. Этим традициям историк следовал всегда, с их позиций оценивая все происходившее как в личной, так и в общественной жизни7.
Страницы дневника М. М. Богословского рассказывают о посещении им церковных служб, о его раздумьях над судьбами Русской Православной Церкви и Российского государства, об отношении к православному вероучению. Он ощущал «поэзию религии», под которой понимал «высокие сущности, вечные и незыблемые», которые человечество «облекает в различные, меняющиеся, но всегда поэтические формы». В ней историка привлекали «ее красота и ее древность». Последняя, считал он, «связует поколения». Для него было важно, что «то, что мы теперь видим и слышим в храме, видели и слышали наши предки XVII, XVI и еще более далекие предки»8.
Сообщая 5 марта 1917 г. о своем присутствии у обедни в церкви Святой Татианы Московского университета, а затем на молебне «о ниспослании Божия благословения на возрождающееся к новой жизни Государство Российское», он с тревогой отметил легкость, с которой духовенство восприняло крушение монархии. М. М. Богословский остановился на проповеди профессора богословия Н. И. Боголюбского, настоятеля университетской церкви, который «сказал хитроумное слово, показывающее, как батюшки могут легко приспособляться».
Предметом для его раздумий стала также речь М. К. Любавского, которой тот после обедни открыл заседание Совета университета. В ней настораживала двойственность заявленных позиций. М. М. Богословский был солидарен с первыми словами ректора: «Вчера мы хоронили старую монархию. De mortuis aut bene aut nihil», — но продолжение выступления его озадачило. Он полагал, что этого латинского изречения достаточно для выражения отношения к произошедшему в стране политическому перевороту. «Однако сказал для чего-то, — записал М. М. Богословский в своем дневнике, цитируя М. К. Любавского, — что в ряду монархов были фигуры мрачные, трагические, трагикомические и даже комические. что монархия пала, потому что обнаружила негибкость, неспособность принять формы, соответствующие новым течениям жизни». Во многом соглашаясь с мнением своего коллеги, он тем не менее считал, что «все это верно, но изображать в мрачных и только мрачных тонах фигуры прежних монархов было напрасно. В них были и очень светлые стороны».
Анализируя события прошедшего дня, М. М. Богословский затронул одну из основополагающих проблем исторической науки — необходимость объективности исследования. Он выразил убеждение, что историк обязан беспристрастно отмечать и сильные, и слабые стороны монархов9. Его заботила нравственная позиция историка как основа для непредвзятого изучения истории. М. М. Богословский выказал понимание всей трудности ее сохранения. Нелегко быть непредубежденным, особенно когда «выбивают из научной колеи газеты, хамски топчущие в грязь то, перед чем вчера пресмыкались»10, — писал он 7 марта 1917 г.
М. М. Богословский был убежден, что Февральский переворот — не единичное политическое событие, «он захватит и потрясет все области жизни и социальный строй, и экономику, и науку, и искусство, и я предвижу, — писал он, — даже религиозную реформацию». Он ожидал, что особенно сильное его влияние испытает на себе русская историческая наука: «Новые современные вопросы пробудят новые интересы и при изучении прошлого, изменятся точки зрения, долго внимание будет привлекаться тем, что выдвинулось теперь, будут изучаться с особенным напряжением революционные движения в прошлом. Положительное, что сделано монархией, отступит на второй план»11.
Историк во многом предугадал дальнейший ход развития отечественной исторической науки. «Надолго исчезнет спокойствие тона и беспристрастие», — такой прогноз был дан им 8 марта 1917 г. М. М. Богословский верил в восстановление в итоге научности исследований, однако задавался вопросом, «как долго ждать этого». Свой оптимизм он черпал из убеждения, что «наука наукой останется и после испытанной встряски. Методы не поколеблешь общественным движением. Наука — одна из твердых скал среди разбушевавшегося моря»12.
В советский период своей исследовательской деятельности М. М. Богословский продолжал руководствоваться таким пониманием задач исторической науки. Оно находилось в полном согласии с одной из десяти библейских заповедей — «не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего»13.
Религиозными убеждениями М. М. Богословский руководствовался в принятии решений по многим частным вопросам. Так, 12 февраля 1917 г. он рассказал о возникшей у него необходимости ответить на письмо священника о. Николая Яхонтова, в котором тот писал о своем сыне-студенте.
Судьба этого молодого человека, подававшего М. М. Богословскому в Духовной академии свое кандидатское сочинение, а затем поступившего в Петроградский университет, сложилась трагически: он в припадке неврастении покончил жизнь самоубийством. Его отец, заштатный сельский священник Владимирской губернии, похоронил сына возле церкви и, хотя прошло уже несколько лет, не мог найти утешения. Он обратился к М. М. Богословскому как к «мужу науки», вооруженному «философскими и богословскими знаниями».
«Что я мог сказать ему? — спрашивал себя историк и продолжал: Ответил попросту, что все, что совершается, совершается по воле Божией, перед которой нам всем надо только преклоняться. А так как сын его совершил самоубийство в припадке жестокой неврастении, то и не может нести ответственности за свой поступок. Не знаю, найдет ли старец какое-либо утешение в моем письме. Глубоко мне его жаль»14. В этом эпизоде М. М. Богословский проявил себя как человек высоких нравственных качеств.
Близким М. М. Богословскому не только по душевному строю, но и по родству человеком (он был женат на его младшей сестре) являлся С. К. Богоявленский (1872‒1947), член-корреспондент АН СССР, знаток «московской старины». Как свидетельствует сохранившаяся метрика, он родился в Москве 17 февраля и был крещен 22 марта в церкви Успения Богородицы в Печатниках Сретенского сорока. Его отец был племянником владыки Московского Филарета (Василия Михайловича Дроздова), канонизированного Русской Православной Церковью. Дед С. К. Богоявленского по материнской линии, также Сергей
Константинович, С. К. Смирнов занимал должность ректора Московской духовной академии, был дружен с В. О. Ключевским.
Будущий историк рос в дружной патриархальной семье. Заложенные в ней основы личности С. К. Богоявленского способствовали тому, что он сумел выжить и остаться верным себе, своим жизненным принципам в трагедии «Академического дела» и последующих идеологических кампаний15.
На основании дневниковых записей еще одного видного советского историка «старой школы», С. Б. Веселовского, можно с уверенностью говорить о соблюдении им православных традиций, но вопросы о вере остались сокрыты. Здесь уместно упомянуть, что далеко не каждый человек склонен доверить бумаге потаенные стороны души. Это в равной степени относится к историкам.
Вместе с тем и до Революции 1917 г. отношение к Церкви и вере, степень религиозности ученых в силу семейных традиций, окружавшей их среды, личных склонностей и предпочтений не были одинаковыми.
Так, С. В. Бахрушин открыто выступал против вмешательства духовенства в светскую жизнь, что вызвало негодование, в частности, М. М. Богословского. 6 сентября 1916 г. в своем дневнике он негативно отозвался о прочитанной им в тот день статье С. В. Бахрушина в «Русских ведомостях». Она была опубликована в связи с обсуждением в прессе проекта Совета министров о привлечении духовенства к городским выборам.
Для М. М. Богословского эта публикация, «резко нападающая на духовенство, его строй, школу, нравы, отрезанность от общества», была неприемлема. Взгляды своего младшего коллеги он напрямую связал с его сословным происхождением. «Мне при чтении этой статьи вспоминалось купечество, к которому и автор ее принадлежит, с прогрессивными повадками и с тою же алчностью к наживе, с которою облапошивали и дедушки в смазных сапогах», — писал М. М. Богословский. «Можно быть прогрессивным гласным и писателем и принадлежать к купеческому дому мародеров, “придерживающих” кожу, чтобы вздуть на нее цену и таким образом ограбить казну и публику»16, — негодовал он, имея в виду как самого С. В. Бахрушина, так и коммерческие спекуляции Бахрушиных накануне Первой мировой войны17.
Свой отпечаток на отношение историков к православию наложили и религиозно-духовные поиски российской интеллигенции рубежа XIX—ХХ вв. Новое столетие просвещенная Россия встречала декадансом: «Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения — признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникавшие в один сезон из небытия»18. Так начинал свой роман «Хождение по мукам» А. Н. Толстой, описывая состояние этой части общества накануне Первой мировой войны.
Богоискательство, богостроительство, толстовство, религиозная философия Владимира Соловьева, распространение материалистического взгляда на мир, и в первую очередь марксизма и пр., создавали в среде деятелей культуры, науки, искусства особую атмосферу, отмеченную напряженным ожиданием грядущих неизбежных перемен.
Болезненную реакцию научного сообщества вызвало проводившееся министром народного просвещения Л. А. Кассо наступление на университетские привилегии. 24 декабря 1910 г., в преддверии Рождества, С. Ф. Платонов (1860‒1933) писал в одном из своих писем: «В канун Великого праздника хочется желать и молиться о том, чтобы стал, наконец, “на земле мир” и отжило наше обычное чувство — ожидание новых бед и отсутствие веры в завтрашний день!..»19
Нестабильность ситуации не только у С. Ф. Платонова вызывала упование на божественное заступничество. Несколько ранее, 6 августа 1910 г., Н. М. Дружинин (1886‒1986), ученик М. М. Богословского, отметил в своем дневнике: «Пришел домой, составил план работы на ближайшие дни, открыл Евангелие от Матфея, и глава за главой полились предо мной простые, глубокие речи Иисуса»20.
Революционные потрясения 1917 г. многие историки «старой школы» рассматривали как «расплату» за «атеизм и космополитизм» русской интеллигенции. «Наша интеллигенция — всегда была нигилистической: не знала ни веры в Бога, ни патриотизма», — писал М. М. Богословский 19 июля 1917 г. По его убеждению, эти ее свойства были «способны разлагать и разрушать, а не создавать что-либо положительное».
Обращаясь к историческому опыту страны, М. М. Богословский искал ответ на волновавшую его проблему сохранения российской государственности. «В 1612 г. нас спасли горячая вера и все же имевшийся запас национального чувства, хотя и тогда верхи общества не прочь были сблизиться с поляками. Теперь что нас спасет?»21 — задавался вопросом историк.
Свои надежды на духовное возрождение страны М. М. Богословский во многом связывал с восстановлением в России патриаршества, о чем принял решение Поместный собор Российской Православной Церкви 1917‒1918 гг. Кандидатами на пост главы РПЦ были выдвинуты архиепископы Антоний Харьковский и Арсений Новгородский, а также митрополит Московский Тихон. 5 ноября 1917 г. во время торжественного богослужения в храме Христа Спасителя старец-затворник Зосимовой пустыни Алексий вынул жребий, который пал на митрополита Московского Тихона.
Этот воскресный день М. М. Богословский встретил на службе в церкви на углу Пречистенки и Царицынского переулка, которая была ему «очень по душе своим видом сельского храма, обстановкой и пением»22. Он отстоял обедню, выслушал проповедь, в заключение которой настоятель «возвестил, что сейчас в Храме Спасителя идут выборы патриарха». «Он возвестил это как великую радость, и я действительно почувствовал радость»23, — записал М. М. Богословский в своем дневнике в тот же день.
Для него избрание патриарха означало обретение островка стабильности в хаосе революции. С этим событием он связывал возможность преодоления новой русской смуты. «Будет лицо, вокруг которого может сплотиться православная Россия; будет духовный, по крайней мере, центр, к которому должны будут тяготеть рассыпанные, растерзанные, разбитые и измученные», — делился М. М. Богословский своими надеждами, полагая, что патриаршество «может оказать бесценные услуги для России»24.
Задаваясь вопросом, кого выберут патриархом (вечером 5 ноября 1917 г., сидя за дневником, М. М. Богословский еще не знал, как решился этот вопрос), он сделал заключение, что «собор поспешил с избранием ввиду происшедших событий»25, имея в виду резкий поворот в социально-политической жизни России.
Обращаясь к истории русского православия, он высказал мнение, что «без патриаршества, может быть, и следовало обходиться при царе»26, однако в условиях победы большевиков оно стало насущным. Для М. М. Богословского, убежденного монархиста, нелегитимной была не только власть Советов, но и Временного правительства. Как курьез, «войну двух государственных преступников»27, он расценил противостояние политических сил, возглавлявшихся А. Ф. Керенским и В. И. Лениным.
29 октября 1917 г., фиксируя в своем дневнике попавшие в поле его зрения события политического переворота, он сравнил выступление уже бывшего главы Временного правительства на заседании Временного совета Российской республики (Предпарламента) 24 октября 1917 г. с речью В. И. Ленина на II Всероссийском съезде Советов в ночь на 26 октября 1917 г. «В своей последней речи в Совете республики Керенский назвал Ленина “государственным преступником”, а Ленин в своей первой речи в Совете съезда депутатов (?) назвал Керенского государственным преступником»28, — иронизировал М. М. Богословский. Небольшое уточнение — в обращении съезда «Рабочим, солдатам и крестьянам!» содержался призыв «оказывать активное противодействие корниловцу Керенскому»29, а преступным было объявлено свергнутое правительство30, но это сути дела не меняло.
Проводя аналогию с русской Смутой начала XVII в., М. М. Богословский указывал на то, что «в истории основное бывает сходно с различиями в частностях». «В Смутное время второй самозванец появился, когда погиб первый, — написал он и продолжил: Теперь второй самозванец согнал первого с престола»31.
Оценивая как историк и гражданин значение церковной реформы, М. М. Богословский противопоставил разложение светской власти сохранности церковной организации. «Церковь не изведала, таким образом, анархии, чашу которой пришлось испить государству»32, — считал он.
Иного мнения по этим вопросам придерживался С. Б. Веселовский. Он полагал, что в России «учреждение патриаршества так же нежизненно, как и республики». Сравнивая системы управления мирской и духовной власти, ученый указывал на их слабость и на отсутствие у них необходимых для любой властной структуры существенных слагаемых. «Освобожденная революцией от власти Синода и прокуроров, церковь оказалась не в состоянии организовать жизненную власть на началах самоуправления. Приходы и рядовое духовенство не умеют повиноваться поставленной ими же самими власти, а верхи церкви не умеют властвовать, — оценивал С. Б. Веселовский состояние РПЦ и констатировал аналогичное состояние органов советской власти: Как в республике нет налицо двух важнейших условий существования власти — уменья и готовности подчиняться и уменья властвовать»33.
С таких позиций он рассматривал проблему изъятия церковных ценностей. Внимание С. Б. Веселовского привлекло одно из нескольких воззваний священников, опубликованных 31 марта 1922 г. в «Известиях». Следует упомянуть, что на совещании в Государственном политическом управлении при НКВД РСФСР о проведении кампании по изъятию церковных ценностей 8 марта 1922 г. было принято решение «обязать редакции всех газет ежедневно помещать статьи по вопросу об изъятии ценностей»34. По замечанию историка, этот документ находился в противоречии с воззванием патриарха Тихона от 15 (28) февраля 1922 г. В нем утверждалось, со ссылками на авторитет «отцов церкви и справки из истории православной церкви», что «употребление ценностей на благие цели вполне канонично и отвечает духу и строю православной церкви»35. Церковь считала допустимым, ввиду чрезвычайных обстоятельств голода в Поволжье и гибели людей, пожертвование только не имевших богослужебного употребления церковных предметов. Изъятие же из храмов всех драгоценных церковных вещей, в том числе и священных сосудов, было объявлено «актом святотатства»36.
Не беря на себя ответственность быть судьей в сложившейся ситуации, С. Б. Веселовский написал в своем дневнике, что «все это, быть может, верно и очень хорошо, но получает совершенно особый смысл и значение после послания патриарха»37. Он увидел в этом «яркий пример распада церкви»38, подразумевая ее иерархическую структуру. Для С. Б. Веселовского священнослужители, «идущие против патриарха и печатающие свои воззвания, на радость и потеху большевиков», были явлением «того же порядка, как комбеды»39.
Историк расценивал производившееся изъятие церковных ценностей как «продолжение лозунга: грабь награбленное». Он выражал сомнение, что вырученные за церковные и музейные ценности средства будут употреблены в пользу голодающих. С. Б. Веселовский был убежден, что «расхищение и растрата церковных богатств будет одной из самых тяжелых плит, которыми будет закрыта могила революции в глазах будущих поколений»40.
Отношение к религии не у всех историков дореволюционной формации оставалось неизменным на протяжении жизни. Обратимся к подневным записям, сделанным Н. М. Дружининым в его бытность студентом. 5 апреля 1914 г., описывая пасхальную заутреню и разговенье, он отмечал владевшее им чувство тоски, вызванное отчужденностью от окружающих, разрывом семейных и религиозных связей.
Н. М. Дружинин писал, что за заутреней он погрузился в «воспоминания о детской религиозности (влияние семейного уклада, курские крестные ходы, впечатления казенной пустыни, игры религиозного характера, горячие молитвы в соборе и дома, в минуты “гонений”) и постепенном крушении веры (антихристианство окружающих, ремесленничество в церк. службах, противоречия “Закона Божия” научным [неразб.], развитие критицизма, влияние истории)». Сначала — «отречение от обряда, а впоследствии — от религии», увлечение историей политических и социальных движений, затем — участие в Революции 1905‒1907 гг. — так историк выстроил цепь событий, приведших его к пересмотру своих духовных ориентиров41.
Такая эволюция была характерна для ряда советских историков первого марксистского поколения. Ей способствовало изменение положения религии и Церкви в Советской России, появление новых коммунистических символов веры, советских обрядов и праздников.
Революционность стала для многих историков данной генерации новой религией, отодвинув на задний план полученные в детстве представления о православии. Рассказывая о своей партийно-профсоюзной работе на Урале, А. М. Панкратова (1897‒1957) 12 февраля 1922 г. писала в письме В. А. Домбровскому, знакомому ей по гимназическим годам в Одессе, что от этой деятельности «какой-то светлый огонь загорается в душе новой верой, новым пламенем и новой работой и заставляет идти вперед»42.
Однако годы лишений и разрухи, связанные с революциями и Гражданской войной, производили в отдельных случаях и обратный эффект. 22 мая 1919 г., в день своих именин, праздник Николы летнего, Н. М. Дружинин признался в дневнике, что его «прежнее, холодно-равнодушное и даже скептическое отношение к празднованию “дня Ангела”» уступило место совсем иным чувствам. Приготовления к этому дню вызвали в нем «светлое ощущение праздника (как на Пасхе!)». «Иллюзия “мирного времени”: на столе пшеничные пироги, ватрушки, торты, сыр, масло, конфеты, прекрасный и сытный обед», — в какой-то степени возродила утраченные духовные переживания43.
Правда, этот эффект был в свою очередь обратим. Описывая празднование Рождества 7 января 1921 г., Н. М. Дружинин отметил, что, несмотря на улучшившиеся материальные условия, позволившие «отметить сочельник устройством елки, небольшой, но хорошенькой, пышно-зеленой», разукрасить ее «яблоками, крендельками, конфетами, рождественскими открытками», зажечь «9 свечей, укрепленных на зеленой хвое», в его восприятии этого праздника появившиеся было особые эмоции вновь погасли. «Когда зазвонили рождественские колокола, я почувствовал Рождество “по старой памяти”, хотя влечение к “семейному” и к традиции у меня значительно ослабело сравнительно с двумя последними годами»44, — констатировал историк.
Приобщение к новым советским праздникам происходило неоднозначно. Н. М. Дружинин 7 ноября 1919 г. в телеграфном стиле заносит события этого дня в дневник: «Вторая годовщина Октябрьской революции. Известие о победах Красной Армии. Обязательное участие в демонстрации. Сбор в Комиссариате. Раздача бесплатных билетов в театр. Шествие по московским улицам со знаменем и красными бантиками. Холод, ветер и снег. Казенно-мертвое настроение. Почти полное отсутствие публики. Вид Красной площади — красноармейские и рабочие колонны. Тяга к “домашнему очагу”. Праздничный обед. Чтение»45.
Отраженное в этой зарисовке настроение прямо соотносится с духом и даже стилистикой поэмы А. Блока «Двенадцать»:
Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер —
На всем божьем свете!
Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек46.
И это ощущение человека, самого отдавшего дань революционной деятельности.
Для молодого поколения советских историков, входивших в начале 1920-х гг. в профессиональную жизнь историками-марксистами, принятие новых устоев общественной жизни было естественным процессом, тем более что многие из них не были рождены в православии.
Помимо этого марксистское материалистическое понимание мира формировало вполне определенное отношение к религии вообще и к православию в частности. Просматривая подневные записи М. В. Нечкиной (1901‒1985), еще студентки Казанского университета, можно заметить, что вначале она фиксирует все основные православные праздники, хотя и нет свидетельств, что они ею отмечались.
Также в своем дневнике именовал определенные даты Н. М. Дружинин. 19 августа 1919 г. он записал: «Праздник Спаса Преображения. Праздничный кофе. Газета. Переписка конспекта Капитала»47, отдав некую дань православной традиции в новом течении жизни, ознаменованном изучением труда основоположника марксизма.
Возвращаясь к дневниковым записям М. В. Нечкиной, в которых 7 апреля 1920 г. помечено как Благовещенье, отметим, что 5 мая того же года она обозначила как «рождение К. Маркса»48. Далее М. В. Нечкина уже не будет различать дни по религиозным датам.
Православные и революционные традиции, перекрещиваясь, находились в борении. 1 мая 1921 г. первый день Пасхи совпал, как писал Н. М. Дружинин, с «пролетарским праздником 1 мая». В советских газетах были помещены статьи о встрече двух сталкивающихся миров, — прошлого и будущего. «Нужно признать, — констатировал историк, — что в этом году “будущее” отступает перед “прошлым” и старая христианская Пасха заставила поблекнуть призыв и лозунги коммунизма».
Н. М. Дружинин находил этому объяснение в особенностях политической жизни: «Мы — “на ущербе”, и помощь пролетарского Запада становится все проблематичнее; все реже и глуше раскаты революционной грозы, которая еще гремит над Европой. Пролетариат выходит не победителем, и наступает переходный, промежуточный период, который может продлиться долго... Проза действительности отметает поэзию смелых порывов, широких идейных взлетов; процесс “приспособления”, не вчера начавшийся, принимает все более наглядные и “серые” очертания. Наступает то, что было предвидено и предсказано ранее»49.
Понятно, что введение новых памятных дат было скептически воспринято в среде историков «старой школы», оказавшихся в Советской России в положении духовных эмигрантов. В этих условиях соблюдение православных традиций имело для них особое значение.
25 января 1919 г. профессора Московского университета не могли встретить Татьянин день в университетской церкви: она была опечатана. Служба была проведена в храме Вознесения на Никитской. «После службы, около часа, профессора начали собираться в профессорской для “беседы”. Все сидели в шубах, галошах и шапках, т.к. температура — на нуле. <...> Говорили о внутреннем жаре, несмотря на низкую температуру, о вечности университета, выражали надежды на лучшие времена и т.п., но, в общем, конечно, вид у всех был измученный и плачевный», — описывал происходившее С. Б. Веселовский и с горечью констатировал, что «никогда университет не встречал день Татьяны в такой обстановке»50.
Возможность следовать привычному образу жизни становилась сама по себе большим праздником. Ю. В. Готье 28 февраля 1919 г. записал: «День без больших впечатлений; удалось вспомнить старую масленицу и съесть вволю блинов; газет не читал вовсе и потому сохранил сравнительно хорошее расположение духа»51.
Нормализация в годы нэпа бытовой стороны жизни для многих советских историков старшего поколения создавала условия для восстановления по возможности привычных ритуалов встречи православных праздников. «Рождественские приготовления в нынешнем году шире и больше, чем в прошлом, — писал 5 января 1922 г. Ю. В. Готье. — Во-первых, больше денег; во-вторых, все можно купить, поэтому готовится елка и куплен гусь»52.
В начале апреля того же года С. Б. Веселовский рассказывал о пасхальных приготовлениях у него дома. Ученый с удовлетворением отметил, что в счет проданных хуторянам построек семья смогла получить 26 фунтов творога и 3 фунта масла, муку и масло он получил в пайке, а яйца и телятина были произведены в собственном хозяйстве. «В общем, — подытожил он, — есть все, что нужно, чтобы справить
Пасху». Ожидание приезда гостей, «дети в предпраздничном приподнятом настроении» — все это, вместе взятое, «вносит в нашу жизнь некоторое разнообразие и дает возможность хоть немного отдохнуть душой от мрачных и однообразных переживаний»53, — писал С. Б. Веселовский, подчеркивая значение православных традиций в постреволюционных реалиях.
По-разному реагировали советские историки первых двух поколений на акции властей, направленные на ограничение влияния Православной Церкви. Если многие представители дореволюционного поколения воспринимали эти акции болезненно, то «красные профессора», как правило, были солидарны с ними. 5 декабря 1931 г., в день разрушения храма Христа Спасителя, М. В. Нечкина оставила такую запись в своем дневнике: «Начали взрывать храм — замечательно». И продолжила: «Много работала над Лениным»54.
Однако и среди историков первого марксистского поколения были не только атеисты. Вспоминая о своем учителе М. Н. Тихомирове, В. И. Буганов писал, что Михаил Николаевич был вынужден стать осторожным, скрытным: «Как можно было убедиться из общения с ним, всю жизнь оставался верующим человеком. Он это отнюдь не афишировал, держал “в себе”; но в своем кругу, среди учеников, его христианские убеждения подчас давали себя знать по некоторым неброским, однако явным признакам. Но о многом же говорят его вера в Бога, беспартийность»55.
Конечно, на основании приведенных довольно-таки разрозненных данных трудно рассчитывать на полное и всестороннее раскрытие роли православия и православных традиций в жизни и деятельности историков России первой трети ХХ в. Тем не менее, основываясь даже на этих крупицах, можно представить, сколько они значили для некоторых историков «старой школы» и какое влияние оказывали на их позиции в науке. В мироощущении представителей первой марксистской генерации православные традиции замещали новые идеологемы, в отдельных случаях православие и его обычаи были в нем глубоко сокрыты. Изучение полифонического образа советских ученых-историков рассматриваемого времени предполагает исследование и этой сложной стороны их мировоззрения.
Примечания
1. См., например: Бычков С. П. В. О. Ключевский и Е. Е. Голубинский. Общие черты социально-психологического и научного облика // Мир историка: историографический сборник. Вып. 7. Омск, 2011. С. 11‒22; Могильницкий Б. Г. Творческая лаборатория историка: дихотомия индивидуального и коллективного начал в его деятельности // Там же. С. 284‒300; Серых А. А. Мы ведь разных поколений, значит, во многом разных мировоззрений. Коммуникативная практика поколений историков конца XIX — начала ХХ в. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2010. Т. 12. № 6; Сидорова Л. А. Духовный мир историков «старой школы»: эмиграция внешняя и внутренняя. 1920-е годы // История и историки. 2003: Историографический вестник. М., 2003; Трансформация образа советской исторической науки в первое послевоенное десятилетие: вторая половина 1940-х — середина 1950-х гг. / Под ред. В. П. Корзун. М., 2011. С. 323‒451 и др.
2. Подробнее о поколениях советских историков см.: Сидорова Л. А. Советская историческая наука середины ХХ века: Синтез трех поколений историков. М., 2008.
3. Щетинина Г. И. Университеты в России и устав 1884 г. М., 1976. С. 183.
4. Никс Н. Н. Московская профессура во второй половине XIX — начале ХХ века. М., 2008. С. 34.
5. Пушкин А. С. Собр. соч. в 10 т. Т. 4. М., 1975. С. 45.
6. Подробнее см.: Сидоров А. В., Старостин Е. В. Матвей Кузьмич Любавский // Историки России. Биографии. М., 2001. С. 369‒377.
7. Халина Т. И. Михаил Михайлович Богословский // Там же. С. 426.
8. Богословский М. М. Дневники (1913‒1919): Из собрания Государственного Исторического музея. М., 2011. С. 464.
9. Там же. С. 320.
10. Там же. С. 322.
11. Там же. С. 322‒323.
12. Там же. С. 323.
13. Исх. 20:10.
14. Богословский М. М. Указ. соч. С. 305.
15. Дмитриева И. А. С. К. Богоявленский — ученый москвовед // История и историки. 2003. Историографический вестник. М., 2003. С. 263‒293.
16. Богословский М. М. Указ. соч. С. 233.
17. Там же. С. 86.
18. Толстой А. Н. Собр. соч. В 10 т. М., 1983. С. 9.
19. С. Ф. Платонов — С. Д. Шереметеву. 24 декабря 1910 г. // Академик С. Ф. Платонов: Переписка с историками: В 2 т. Т. 1. М., 2003. С. 143.
20. Дневник Николая Михайловича Дружинина // Вопросы истории. 1995. № 10. С. 154.
21. Богословский М. М. Указ. соч. С. 389.
22. Там же. С. 454.
23. Там же.
24. Там же.
25. Там же.
26. Там же.
27. Там же. С. 450.
28. Там же.
29. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 12.
30. Там же. С. 23.
31. Богословский М. М. Указ. соч. С. 450.
32. Там же. С. 454.
33. Веселовский С. Б. Из дневника 1921‒1922 гг. 26 марта 1922 г. (Об изъятии церковных ценностей) // С. Б. Веселовский. Семейная хроника. Три поколения русской жизни. М., 2010. С. 401.
34. Архивы Кремля. В 2 кн. Кн. 1. Политбюро и церковь. 1922‒1925 гг. М.; Новосибирск, 1997. С. 116.
35. Веселовский С. Б. Указ. соч. С. 401.
36. Архивы Кремля. Указ. изд. С. 114.
37. Веселовский С. Б. Указ. соч. С. 401.
38. Там же.
39. Там же.
40. Там же. С. 402.
41. Дневник Николая Михайловича Дружинина. Указ. изд. 1996. № 3. С. 136.
42. Историк и время. 20‒50-е годы ХХ века. А. М. Панкратова. М., 2000. С. 265.
43. Дневник Николая Михайловича Дружинина. Указ. изд. № 4. С. 113.
44. Там же. № 9. С. 114.
45. Там же. № 4. С. 130.
46. Блок А. Собр. соч. в 6 т. Т. 2. М., 1980. С. 313, 315.
47. Дневник Николая Михайловича Дружинина. Указ. изд. С. 124.
48. Дневники академика М. В. Нечкиной // Вопросы истории. 2004. № 11. С. 128.
49. Дневник Николая Михайловича Дружинина. Указ. изд. № 9. С. 121.
50. Дневники С. Б. Веселовского 1915‒1923, 1944 годов // Вопросы истории. 2000. № 8. С. 87.
51. Готье Ю. В. Мои заметки. М., 1997. С. 266.
52. Там же. С. 511.
53. Дневники С. Б. Веселовского 1915‒1923, 1944 годов. Указ. изд. № 10. С. 137.
54. Дневники академика М. В. Нечкиной. Указ. изд. 2005. № 5. С. 140.
55. Буганов В. И. Михаил Николаевич Тихомиров // Историки России. Биографии. Указ. изд. С. 678.
[*] Доктор исторических наук, Институт российской истории РАН.