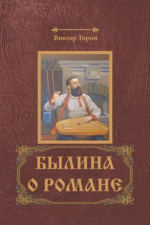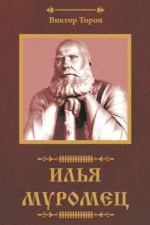Горький, прежде, в 1917–1920 гг., деятельно спасавший многих деятелей российской культуры и ученых от голода, разорения и необоснованных репрессий, принял активное участие и в деле борьбы с голодом 1921–1922 гг., вложив в него много души, энергии и организаторского таланта. Благодаря усилиям Горького был создан Всероссийский комитет помощи голодающим, просуществовавший всего месяц (с 21 июля по 27 августа); его история кончилась арестом большинства беспартийных членов по надуманным политическим обвинениям и реквизицией всех собранных средств. В 1921 г. Горький, будучи убежденным противником религии и церкви, пошел и на сотрудничество с Патриархом Тихоном, убедив его выступить совместно с воззваниями. В Архиве Горького в одном и том же деле хранятся тексты воззваний М. Горького «Честные люди» (датировано писателем 6 июля 1921 г.) и Патриарха Тихона (без даты), с написанным Горьким от руки названием «Архиепископу г. Нью-Йорка» на первом листе[i]. 13 июля Алексей Максимович писал своему другу баронессе М. И. Будберг: «Патриарх Тихон и Ваш слуга выпустили прилагаемые воззвания, они уже переданы по радио в Чикаго, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Мадрид, Берлин, Прагу и т. д.»[ii]. И в тот же день сообщил В. Г. Короленко: «Посылаю Вам копию воззвания Патриарха. Это очень умный и честно мыслящий человек, он хорошо знает печальные недостатки великорусского племени»[iii]. Эта оценка весома в устах деятеля культуры, открыто не любившего церковников.
В воззвании «Честные люди» М. Горький писал: «хлебородные степи Юго-востока России поражены неурожаем, причины его небывалая засуха. Несчастие грозит миллионам населения России смертью от голода. Напомню, что народ русский сильно истощен влияниями войны и революции и что степень его сопротивления болезням, его физическая выносливость, — значительно ослаблена. Для страны Льва Толстого и Достоевского, Менделеева и Павлова, Мусоргского, Глинки и других всемирно ценных людей наступили грозные дни, и я смею верить, что культурные люди Европы и Америки, поняв трагизм положения русского народа, немедленно помогут ему хлебом и медикаментами. Если гуманитарные идеи и чувства — вера в социальное значение которых так глубоко поколеблена проклятой войной и безжалостным отношением победителей к побежденным, я говорю, вера в творческую силу этих идей и чувств должна и может быть восстановлена — несчастье России является для гуманитариев прекрасной возможностью показать жизнестойкость гуманизма. Я думаю, что особенно горячо следует принять в деле помощи русскому народу тем людям, которые в годы позорной войны натравливали людей друг на друга, уничтожая этой травлей воспитательное значение красоты идей, выработанных человечеством с величайшим трудом и так легко убитых глупостью и жадностью. … Я прошу всех честных людей Европы и Америки о немедленной помощи русскому народу. Дайте хлеба и медикаментов. М. Горький»[iv]. Воззвание Патриарха Тихона было более лаконичным, но говорило о том же: «Через вас зову народ Соединенных Штатов Северной Америки: в России голод. Огромная часть ее населения обречена на голодную смерть. Хлеба многих губерний, бывших раньше житницей страны, отмечены засухой. Но почве голода — эпидемии. Необходима немедленно самая широкая помощь. Всякие соображения иного порядка должны быть оставлены в стороне: гибнет народ, гибнет будущее, ибо население бросает свои дома, земли, поля, хозяйства и бежит на восток с криком: хлеба. Промедление грозит бедствиями, неслыханными доселе. Высылайте немедленно хлеб и медикаменты. С таким же призывом обращаюсь к народу Англии через Архиепископа Кентерберийского. Молитесь, да утихнет гнев Божий, движимый на нас. Тихон, Патриарх Московский и всей России»[v]. Воззвание Патриарха Тихона и обращение М. Горького на английском языке были опубликованы 23 июля в газете «Нью-Йорк таймс»; они не только публиковались в иностранных газетах, но и распространялись по дипломатическим каналам. Совместная акция писателя и патриарха вызвала крупный международный резонанс и дала значительный эффект в деле привлечения к борьбе в голодом в Советской России ряда крупнейших иностранных благотворительных организаций — в их числе была Американская администрация помощи (АРА), возглавляемая Г. Гувером, внесшая наиболее существенный вклад в дело помощи голодающим[vi].
Надо заметить, что сотрудничество с Патриархом Тихоном на почве борьбы с голодом, видимо, подвигло Горького на заступничество перед властью по некоторым делам, связанным с религией. Скорее всего, под влиянием бесед со святителем Тихоном Горьким 16–17 июля 1921 г. было написано письмо В. И. Ленину с осуждением деятельности «проходимца» Шпицберга на «антирелигиозном фронте», объявившем себя «богоборцем» и редактировавшим вместе с П. А. Красиковым журнал «Церковь и революция». Писатель заметил, что Шпицберг «совершил бесчисленное количество разных мерзостей, вредных для престижа Советского правительства» и перечислил брошюры и статьи последнего, как оскорбляющие чувства верующих[vii]. С аналогичными жалобами на Шпицберга примерно в то же время обращался к властям и патриарх Тихон[viii]. 29 июля в письме к Ленину Горький заступился и за православного священника Троицкой церкви в г. Колпино Петроградской губернии А. И. Боярского: «Я говорил Вам об аресте священника Боярского и о том, что за него ручаются 647 ч(еловек) колпинских рабочих. Вы обещали мне дать по этому поводу ответ, но я его не получил. Сегодня количество подписей под прошением об освобождении Боярского достигло 1400 и обещает еще возрасти. Ежедневно ко мне являются группы рабочих разных заводов с ходатайствами за Боярского. Все они утверждают, что Боярский «политикой не интересуется», но имеет огромное моральное влияние и «десятком слов может заставить работать. Примерно: лесная заготовка (прошлого года) организована им и огородное дело тоже. Он умеет говорить с нами и любит нас». Среди подписавших прошение об освобождении Боярского немало коммунистов. Я очень прошу Вас обратить внимание на это дело, а то, пожалуй, мы получим еще один Кронштадт»[ix]. Боярский был освобожден только в октябре 1921 г., впоследствии стал видным деятелем обновленческого движения и был расстрелян в 1937 г[x].
М. Горький летом-зимой 1921 г. и весной 1922 г. выступил еще с целой серией разных воззваний о борьбе с голодом, ориентированных на зарубежные круги: «Гражданам Великобритании», «Германии», «К французам!», «Рабочие Франции», «граждане Испании», «гражданам Соединенных Штатов Северной Америки, гражданам республик Америки Южной, гражданам Канады», «жителям немецкого города Тюбенгена» и др., выступал с речами, слал письма деятелям культуры, вел переговоры с иностранными делегациями[xi]. И эти усилия не пропадали втуне; они давали реальные результаты. Так, беседуя с группой советских военных корреспондентов, немецкий писатель Г. Гауптман вспоминал в 1945 г., что в ответ на призыв Горького им и Ф. Нансеном «собрана была солидная по тем временам сумма; мы купили медикаменты и отправили их пароходом в Революционную Россию»[xii]. После своего «добровольно-вынужденного» отъезда в Европу в октябре 1921 г. (под предлогом необходимости лечения) борьбу с голодом Горький продолжал рассматривать как одно из ведущих направлений своей деятельности, а глава советского правительства В. И. Ленин продолжал считать писателя своим сотрудником в этой области. Так, 6 декабря 1921 г. Ленин в частном письме просил Горького написать Б. Шоу и Г. Уэллсу «чтобы они оба взялись для нас помогать сборам в помощь голодающим… Хорошо бы, если бы Вы им написали. Голодным попадет тогда больше. А голод сильный»[xiii]. Думается, для Ленина подобные поручения Горькому были и тактическим маневром. Власть, несмотря на фактическую высылку писателя, не хотела слишком его отдалять от жизни советской России. Он должен был продолжать ощущать свою нужность строительству новой жизни. Горький в ответе Ленину от 25 декабря сообщил, что он уже писал Уэллсу, а Шоу писать бесполезно («Этот старый благер все остроумничает и рисуется скептицизмом»). Алексей Максимович информировал политика о других своих усилиях («Вообще я делаю все, что могу…»). Им, в частности, замечалось, что в Бразилии и Аргентине много собрано денег и хлеба, но работа эта не объединена, «идет как-то в розницу», не знают, куда посылать деньги, надо ли покупать на них продукты — хлеб, одежду, обувь… Поэтому писатель предложил назначить агентов по сбору во всех странах, — «людей, которые указывали бы куда посылать, что покупать и вообще — толкали дело, всячески ускоряя отправку хлеба и продуктов в Россию». В качестве последних Горький рекомендовал Ленину свою гражданскую жену М. Ф. Андрееву, также известную активной ролью в организации зарубежной помощи голодающим, и своего друга баронессу М. И. Будберг[xiv]. Переписка писателя тех лет наглядно показывает, что тогдашние события он принимал «близко к сердцу», она проникнута его живым, неформальным отношением к делу спасения людей. Так, 3 января 1922 г. он писал Р. Роллану о тяжелом положении России, в которой «голод губит интеллектуальные силы»[xv]. И т. д.
Думается, власть устраивало то обстоятельство, что Горький в своих воззваниях объяснял причины голода 1921–1922 гг. главным образом погодными условиями и неурожаем, игнорируя породившие голод духовные, политические и социальные факторы, связанные с реалиями провалившейся политики «военного коммунизма». В этой связи уместно напомнить об ответном письме В. Г. Короленко к Горькому в июле 1921 г. По мысли Владимира Галактионовича, возникший голод не был «стихийным», а являлся закономерным следствием нарушения «естественного порядка труда». «Наше правительство погналось за равенством и добилось только голода, подавили самую трудоспособную часть народа, отняли у него землю, и теперь земля лежит в пустоте»[xvi]. Похожие размышления высказал в полемическом письме к Горькому и другой крупнейший русский писатель — И. А. Бунин. «Только ли «из-за засухи», советский псалмопевец? А сотни тысяч десятин незапаханных, незасеянных? А ваш пресловутый «революционный порядок», ваши «комбеды», ваше «советское опытное хозяйство», ваши «отобрания излишков», ваши «реквизиции», из-за которых мужики сгноили в земле миллионы пудов зерна, ваше натравливание бедняков на кулаков?»[xvii]. Однако эта звучащая со стороны собратьев по перу критика отнюдь не умаляет высокое благородное значение подвига Горького 1921–1922 гг., сумевшего объединить людей разных политических убеждений в деле помощи голодающей советской России.
Диаметрально противоположную картину мы увидим, когда посмотрим на отношение М. Горького к повторению трагедии, но на другом историческом этапе — к не менее опустошительному голоду 1932–1933 гг., также унесшего миллионы жизней. Позицию писателя в этой связи можно охарактеризовать как полное неучастие и совершенное отстранение от постигшей народы СССР тяжелой беды. Тема голода ни разу не возникает ни в обширной публицистике Горького тех лет, ни в его многочисленных речах и выступлениях, в том числе, связанных с обращениями к международной общественности, ни в его переписке с советскими писателями и с зарубежными деятелями культуры (Р. Роллан, Г. Уэллс и др.), ни, наконец, в переписке с вождями Советского Союза (И. В. Сталин, В. М. Молотов, Л. М. Каганович и др.). Между тем, информация с мест, скорбные письма Горькому о последствиях коллективизации и о голоде (некоторые из них нами цитируются ниже, а одно публикуется полностью) до высокого адресата доходили и сохранялись им в своем архиве. Это дает возможность заключить, что Горький о голоде 1932–1933 гг. знал. В чем же причины произошедшей столь серьезной перемены в отношении писателя к такой народной беде, как голод?
Не вдаваясь в полемику, как с апологетами, так и с острыми критиками позиции Горького после возвращения писателя в сталинскую Россию в мае 1928 г., выскажу соображение, что Горький смотрел на все события советской действительности под своим, строго заданным углом зрения. Это был взгляд мажорно-оптимистический, когда окружающая реальность воспринималась и оценивалась сквозь призму победоносной поступи реальных и мнимых успехов и достижений первого в мире социалистического государства трудящихся, которое в тяжелой борьбе с многочисленными внешними и внутренними врагами строит самое справедливое общество на земле, свободное как от недугов прошлого, так и от отрицательных сторон современных «хищнических», капиталистических стран мира. Этим сознанием проникнута вся публицистика М. Горького 1930-х гг., аналогичное мировосприятие было присуще миллионам советских людей того времени — от рядовых рабочих и колхозниц до деятелей культуры. Официальная пропаганда сознательно подпитывала и умножала это оптимистическое мировосприятие, так как в нем была закваска энтузиазма советских людей, помогавшим им, невзирая на чудовищные трудности и лишения, возводить грандиозные стройки и промышленные гиганты, создавать оборону страны. Критика и так называемая «самокритика» в условиях все более усиливающегося общественного единомыслия могла при таких условиях сводиться только к осуждению отдельных частных недостатков в быту — при подтверждении неизменной правильности политики власти, воплощенной в генеральной линии партии. Поэтому такие тягчайшие массовые трагедии как раскулачивание (незаконные репрессии миллионов ни в чем не повинных сельских тружеников) или голод 1932–1933 гг. в общепринятой, официальной картине мира просто не могли существовать, они противоречили тому мажорно-оптимистическому вектору, который утвердился в сознании миллионов советских людей. Открытие страшной правды о реальных преступлениях режима лишило бы их внутренней основы, обессмыслило труд и подвиг их жизни. Не был в этом отношении исключением и такой замечательный писатель и подвижник культуры, как М. Горький. Так, наставляя писателя Е. Добина по поводу плана журнала «Литературная учеба», он считал необходимым учить писателей «правильно разбираться в двух одновременно существующих действительностях… Так как факты социалистической действительности крупнее и несравнимо более ярки, мы должны владеть ими так, чтобы они подавляли и уничтожали обильные мерзости мещанской жизнедеятельности…»[xviii] В царстве самообмана Горького и карательно-истребительная деятельность чекистов не могла не казаться способом чудесного воспитания хороших советских людей из социально-опасных элементов и врагов советской власти. Острая критика политики Сталина, звучащая со стороны эмигрантских изданий, Горьким воспринималась либо с отвращением, либо с иронией. Так, 20 ноября 1932 г. он писал Г. Г. Ягоде «Читаю обвинительные писания высланной англичанки и — смеюсь, экая дуреха!»[xix] Имелось в виду открытое письмо Ягоде «Я обвиняю» высланной из СССР англичанки мисс Клайман за публикацию сообщения о Кемском концлагере и преследованиях кулаков. Критика же сталинской политики со стороны ряда корреспондентов «изнутри» подвигала писателя на ядовитые, обличительные ответы в печати, в которых он характеризовал внутренних противников нового строя как «механических граждан», скептиков и пессимистов, носителей мещанских настроений и даже как «врагов трудового народа»[xx]. Однако сам Ягода, из-за болезни В. Р. Менжинского тогда уже фактический руководитель ОГПУ, в переписке с Горьким цинично проговорился о значении голода, как побудителя у крестьянства покорности власти. 18 марта 1933 г. Ягода написал: «Сейчас, по-моему, кулака добили, а мужичок понял, что если сеять не будет, если работать не будет, умрет, а на контру надежды никакой не осталось»[xxi]. Трудно судить, какие чувства у писателя-гуманиста вызвали эти страшные слова, но в переписке с шефом ОГПУ он никак не отозвался на них. Нет оснований сомневаться в искренности Горького, когда он обращался к Ягоде: «Вы стали для меня «своим», и я научился ценить Вас. Я очень люблю людей Вашего типа. Их — немного, надо сказать»[xxii].
Годы голода 1932–1933 гг. были наполнены бурной организационной деятельностью Горького по строительству советской культуры, несмотря на то, что большую часть этого времени, с 29 октября 1932 г. по 9 мая 1933 г., писатель жил за границей, главным образом в Сорренто. Так, Горький принял участие во многих культурных начинаниях — организация работы редакции «История фабрик и заводов», редактирование биографий для серии «Жизнь замечательных людей», издание серии иностранных романов «Жизнь молодого человека 19-го столетия», редактирование журнала «Наши достижения», ориентированного на прославление успехов социалистического строительства, альманаха «Год XYI», подготовка первого номера журнала «За рубежом» (под своей же редакцией), выпуск новых книг издательства «Academia» и серии литературы для детей и юношества, забота об организации ВИЭМ (Всесоюзного института экспериментальной медицины), работа по организации будущего Союза советских писателей и др.[xxiii] Будучи в Сорренто, М. Горький пришел в восторг от газетных отчетов о январском пленуме ЦК ВКП (б) 1933 г., полностью одобрившим разгромы последних внутрипартийных оппозиций Сталину (группы М. Н. Рютина, Смирнова-Эйсмонта), а также приведший к голоду сталинский курс выкачивания хлеба из деревни в ходе хлебозаготовительной кампании. Пленум возложил ответственность за все «продзатруднения» на кулаков и других врагов советской власти. 5 февраля 1933 г. Горький писал наркому просвещения А. С. Бубнову: «Читал я речи, произнесенные на Пленуме, и — радовался, и было тоскливо, что я не с Вами, товарищи, а здесь, где запах гниения становится все гуще, и все сильнее начинает попахивать обильным кровопролитием…»[xxiv] Возвращаясь в Союз, 17 мая 1933 г. М. Горький на пароходе прибыл из Стамбула в Одессу и затем проехал поездом-экспрессом через всю голодающую Украину, сделав остановку на перроне вокзала в Киеве 18 мая. И в Одессе, и в Киеве Горького шумно приветствовали и чествовали делегации разных организаций. Но писатель в ходе своего возвращения не замечал страданий народа (или делал вид, что не замечал). Зато «Правда» сообщила, что, выступив с краткой речью в Одессе, «М. Горький провел яркую параллель между ростом культуры и расцветом науки в Советском Союзе и полным упадком науки и культуры на Западе». 19 мая Горький был торжественно встречен в Москве[xxv].
Итак, о голоде 1932–33 гг. М. Горький молчал, — однако, раздражение в связи с так называемыми «хлебозаготовительными затруднениями», в которых писатель, вслед за руководством страны, винил происки мифических «кулаков», порывалось в его переписке. В письме Р. Роллану от 30 января 1933 г., то есть в разгар голода, Горький писал: «Героическая, изумительная по богатству результатов деятельность рабочих не понимается старым, кулацкого духа крестьянством. Кулаки все еще вожди деревни, и они учат ее: требуй с города все, что хочешь, и не давай ему хлеба! (О том, что на самом деле хлеб надо было дать деревне, Горький вопрос не ставил, да и никакими «вождями деревни» «кулаки» в 1933 г. не были. — И. К.). Разумеется, кулаков, в свою очередь, вдохновляют «внутренние враги»[xxvi] Сов(етской) власти, осколки буржуазии, вкрепленные в 163-миллионную массу и связанные с эмиграцией. Эмигранты Праги и Парижа не перестают «работать», черпая материал для критики советской действительности из советской же прессы, которая, на мой взгляд, слишком громко, а иногда даже истерически кричит о недостатках и ошибках нашего правящего аппарата, возлагая на него ответственность за все грехи, даже такие, как плохо построенная лестница в доме»[xxvii]. Уместно привести и другие суждения Горького из переписки с Р. Ролланом. Так, он восхищался, что «грязные русские деревни исчезают, заменяясь городами», а коллективизация якобы «освобождает крестьян от каторжного труда»[xxviii]. Р. Роллан был одним из сподвижников Горького по борьбе с голодом в советской России 1921–1922 гг., но о повторении трагедии в 1932–1933 гг. он не знал, а корреспонденты из Советского Союза вроде Горького поддерживали его уверенность о том, что, несмотря на все трудности и издержки, СССР успешно строит самое справедливое в мире общество.
Ниже публикуется письмо П. И. Иванова из Архива Горького, — вероятно, одно из многих писем, полученных писателем о голоде 1932–1933 гг. «П. И. Иванов» может быть и псевдонимом, а в конце письма автор сделал приписку: «Надеюсь, что за это письмо я не попаду в подвалы ГПУ». Письмо, как свидетельство, тем ценно, что его автор — человек коммунистических убеждений, принципиальный сторонник социализма, а по своему социальному положению рабочий, т. е. представитель «победившего» пролетариата. Он верит в Ленина, в его гуманизм и народолюбие («Ленин этого не допустил бы. Ленин любил и жалел людей!»), он верит в рассказы сталинской пропаганды о наличии «вредителей» в народном хозяйстве. Но, вместе с тем, публикуемое письмо содержит глубокие наблюдения и здравые мысли о постигшей Украину трагедии.
В письме указывалась главная причина голода на Украине (как, заметим, и в других местностях СССР) — драконовские изъятия государственными заготовительными органами сельскохозяйственной продукции у крестьян, вплоть до запасов зерна, кормов, мелкого домашнего скота и даже домашних животных. Иными словами, беззастенчивый грабеж властями деревни («село же все отдало государству, и ему оставлено лишь право голодной смерти»). Все это делалось для масштабного экспорта в целях индустриализации. На обычные человеческие судьбы и даже на элементарное выживание простых тружеников сталинская власть при этом не обращала внимания. Это письмо, как и другие подобные живые свидетельства участников событий, — укор тем авторам современных школьных учебников по истории России, которые, презрев историческую правду, отрицают организованный характер голода 1932–33 гг., выставляя главной его причиной погодные условия. Наблюдательный автор письма называл важную причину разорения советского хозяйства — исчезновение личной заинтересованности у людей в результатах своего труда. Заметим, что Горький в своей публицистике пренебрегал значимостью этого фактора. Писателю казалось, что коллективный труд является тем чудесным средством, который способен сам по себе обеспечить расцвет социалистической экономики и значительно повысить благосостояние трудящихся. Факты реальной жизни опровергали радужные надежды писателя, но он их не замечал. Автор письма поставил вопрос о цене выполнения громадных сталинских планов. Для Горького высокая цель искупала все вероятные издержки. Вопрос соотношения цели и средств он давно решил в пользу цели, что обусловило его позицию публициста как апологета советского социализма. Трудно не согласиться с современным исследователем А. В. Евдокимовым, что для Горького «важен результат, полученный большевиками, — подъем экономики и культурного развития страны. А то, каким образом, а, самое главное, какими средствами этот прогресс был достигнут, для него было на рубеже 1920–30-х годов уже не столь важным»[xxix]. Да и в чем именно был достигнут этот «подъем» и по каким параметрам его следует определять? По лубочным картинкам, рисуемым официальной пропагандой, по бодрым рапортам о бесчисленных успехах и достижениях, или по реальным фактам, среди которых были и те мрачные явления, преступления и трагедии, о которых свидетельствовали и отдельные авторы таких смелых писем? П. Иванов обращал внимание писателя и на полную общественную безгласность, сопровождавшую бесчисленные жертвы и лишения простых людей, — подобную безгласность обеспечивали каждодневным полицейским террором карательные органы советского государства, навешивавшие ярлык «контрреволюции» на различные проявления протеста против произвола властей. П. Иванов в письме затронул и тему неоправданных привилегий для партийно-советской номенклатуры, ставших цельной системой к началу 1930-х гг. Строки письма обличали особую безнравственность положения «жиреющих» партийцев — от Сталина до рядовых секретарей райкомов — в годы голода, выкашивающего миллионы простых сельских тружеников. От своего поколения победителей в гражданской войне автор спрашивал «за что же мы кровь-то проливали?» и не находил ответа. Он признавал ошибочность политики насильственной коллективизации, прямо приведшей к сельскохозяйственной катастрофе и к голоду, и тщетно взывал к знаменитому писателю, наивно надеясь, что тот возвысит свой голос протеста, как когда-то смело возвышал его против крайностей большевистской политики в конце 1910-х — начале 1920-х гг. Автор письма не ограничился честным показом страшной картины голодающей и вымирающей деревни; он доносил до писателя информацию и о тяжелом, бедственном положении рабочих в сталинском «раю», вынужденных, чтобы как-то свести концы с концами, массово идти в ударники, при этом «добровольно» отказываясь от тех социальных льгот, которыми на бумаге одаривал их режим. Корреспондента Горького искренне возмущала ложь и лицемерие сталинской прессы, совершенно не замечавшей трагедии миллионов людей и трубившей исключительно об успехах и достижениях. Автор возлагал надежды на выступление всемирно известного писателя по поводу его письма. Но реакции М. Горького на это письмо, включая предложение автора посетить вымершие села Украины, также не последовало. В архиве Горького хранятся и аналогичные письма, — настоящие «крики души» замученных режимом людей, к которым также оставался глух всемирно известный писатель. Однако его бесспорная заслуга в том, что он сохранил их в своем архиве, как уникальные свидетельства эпохи. Некоторые отрывки из этих писем мы считаем необходимым привести в этой вступительной статье. Так, некто Бобров озаглавил свое письмо Горькому от 10 августа 1933 г. как «письмо искреннего, умирающего человека». Он взывал: «Не сотни, а тысячи желали бы видеть в Вас того Горького, который боролся за угнетенных обиженных и униженных, но теперь, на склоне лет, ушел от них!!! Этот Горький не хочет знать того, что в житнице России, на Украине и Кубани десятки тысяч гибнут, пухнут от голода, не считаясь ни с возрастом, ни с полом, а просто целыми селениями — это факты и голые факты. Я не говорю уже о высланных административно от ОГПУ, тут прямо повально мрут от голода в страшных мучениях. Мы уверены в том, что такой умница, как Сталин и Молотов и соответствующие начальники, этого не знают, то есть знают так, как Вы были в Соловецких и Курмаше. Я был в Ваш приезд в Соловецких, где за три дня одели нас и стали кормить лучше. Но не успели уехать, как одежды сорвали и стали кормить хуже собак! Так и (в) Мурмане, так показывают и всем русским и иностранным делегациям и высшему начальству. … Коснусь административно-высланных, что, живя и говоря с ними и проверяя их, убедился я крепко, что все это невинные люди и попали в эти края по недоразумению. Но смертность от голода так велика, …что на войне не гибнет больше. Бросьте верить, что есть кулаки, их уже нет и нет, они исчезли и не вернутся! …Я сам молюсь на ваши достижения, я сам партийный, но ледяной холод забирает, когда видишь на улицах голые трупы. Здесь просто с целью морят, ибо факт тот, что целые склады ржи, муки вся забронированы. … Нет слов, чтобы сказать, какая дикая смертность на почве голода. Едят только мякину, солому, малагу и мох. …Я написал и совесть моя чиста. Уберите отсюда оставшихся в живых административно высланных»[xxx]. Несколько раньше селькор Н. В. Гришакин 29 июня 1931 г. доносил до писателя жестокую правду о коллективизации: «Разве Вы, Алексей Максимович, писатель и старый рабкор, человек, вышедший из подонков старого общества… разве Вы не видите, что соцсоревнования есть мероприятия партии для выжимания последних капель энергии из рабочего, что это также эксплуатация — бабушка, но только в новом платье? Разве Вы не видите, что шум о добровольности коллективизации поглощается сумасшедшим нажимом на крестьянина (середняка, главным образом), страхом хлебозаготовок, высылания на Соловки, в Архангельск, на Урал, страхом разграбления и т. п. Нужно быть слепым, фанатиком, чтобы не сказать того же, что говорят правые: — Партия ведет политику военно-феодальной эксплуатации крестьянина. — Партия привела сельское хозяйство к немыслимой деградации. … Нужно быть слепым, чтобы не видеть, как снова барствует эта гидра — партийная бюрократия. … «Нужно быть слепым, — скажете Вы, — чтобы не видеть Днепростроя, 56 % коллективизированного сектора и т. д.» Но ведь это сделано в силу обстоятельств за счет обнищания рабочих масс, за счет наших легких и т. д. … Меня только удивляет, как можете Вы после всего говорить в лицо тысячам о правильности политики партии, не закрывая глаз и не забывая, что Вы видите тех же сирот, те же тысячи полуголодных, голых, несчастных, убитых алкоголем «хлебного вина», т. е. тысячи, за которые бились, освобождая их от ига Николая Кровавого? Вы человек искусства. Ваше первое дело — работать в этой области, но разве Вы не видите, что это все превращается в обязанность? Вы не смотрите, до чего мы докатились с этим партийным режимом? Вместо совести, идеала, труда и стараний — обязанность. Она одна тянет нас на собрания, в театр, в клуб, на работу. Она одна, да еще военная вакханалия, обилие вооруженных паразитов, на которых держится диктатура пролетариата в данное время и которые веселятся на наши копейки, заставляя нас молчать. Я — человек! Но я вижу, что меня превращают в скотину, но я должен повторять в уши партии: «Верю, так должно быть». «Ибо все к лучшему», как сказал еще Вольтер со своим Кандидом»[xxxi].
Надо заметить, что отдельные сигналы с мест о бедственном положении трудящихся Горький доносил до руководства страны, но касались эти письма недостатков в обслуживании на местах, злоупотреблений местных начальников, а не критики политики партии в целом. Так, в сентябре 1931 г. Алексей Максимович переслал председателю СНК СССР В. М. Молотову два письма «с критикой», — Мохова «от рабочих» и Чиркова «от крестьян». И то и другое касалось безобразий в бытовых условиях. Молотов в своем ответе писателю от 11 сентября провел анализ этих писем. Глава правительства согласился, что снабжение надо улучшить и одобрил мысль писателя о пробуждении инициативы комсомольцев в этом направлении. Вместе с тем, Молотов отметил предпочтительность письма рабочего Мохова над письмом крестьянина Чиркова, умело подыгрывая известным антикрестьянским убеждениям Горького. Последнее, по Молотову, «страдает известной ограниченностью и написано с противного Мохову конца — деревенского. Оно проникнуто типичной для мелкособственнической психологии ревностью к рабочему, которому, де, хорошо живется, не как в деревне и т. д.»[xxxii]. Этот совпадающий антикрестьянский подход властей и писателя тоже был одним из факторов, делающим невозможным выступления и протесты Горького против трагедии советской деревни — коллективизации, раскулачивания и голода 1932–1933 гг.
* кандидат исторических наук, Институт российской истории РАН.
[i] АГ (Архив Горького) РпГ 1-25-1.
[ii] Горький А.М. Полное собрание сочинений. Письма. Т.13. М., 2007. С.205.
[iii] Там же. С.207.
[iv] АГ (Архив Горького) РпГ 1-25-1.
[v] Там же.
[vi] Латыпов Р. Помощь АРА Советской России в период «великого голода» 1921-1923 гг. / Научно-культурологический журнал. №123 (1 января 2006 г.).
[vii] Горький А.М. Полное собрание сочинений. Письма. Т.13. С.209.
[viii] Там же. С.550,551.
[ix] Там же. С.216.
[x] Там же. С.562,642.
[xi] Летопись жизни и творчества М. Горького. М., 1959. Т.3. С.236-243.
[xii] Там же. С.277.
[xiii] Ленин и Горький. Письма, воспоминания, документы. М, 1969. С.218.
[xiv] Там же. С.219.
[xv] Летопись жизни и творчества М. Горького. Т.3. С.265.
[xvi] Горький А.М. Полное собрание сочинений. Письма. Т.13. С.548.
[xvii] Там же. С.542.
[xviii] Летопись жизни и творчества М. Горького. Т.3. С.290.
[xix] Неизвестный Горький. М., 1994. С.186.
[xx] Публицистика М. Горького в контексте истории. М., 2007. С.440-455
[xxi] Неизвестный Горький. М., 1994. С.189.
[xxii] Там же. С.180.
[xxiii] Летопись жизни и творчества М. Горького. Т.3. С.218-291.
[xxiv] Там же. С.273.
[xxv] Там же. С.293-295.
[xxvi] Так в тексте.
[xxvii] Горький М. Собрание сочинений в 30-ти тт. М., 1956. Т.30. С.283,284.
[xxviii] Горький и Р. Роллан. Переписка. 1916-1936. М., 1996. С.197,198.
[xxix] Публицистика М. Горького в контексте истории. С.436.
[xxx] АГ КГ-рл 3-90-1. Лл.1-3.
[xxxi] Там же. КГ-рис 1-1/4-1. Лл.1-2 об.
[xxxii] Там же. КГ-082–60-3. Лл.1-3.