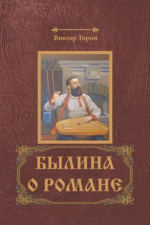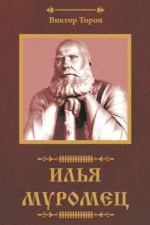Подробности свой личной жизни философ скрывал тщательно и довольно успешно: не хранил интимных писем и своими переживаниями ни с кем не делился, разве что в шутливом разговоре и без упоминания имен. Тем более удивительно, что в 1892 г. в журнале «Русская мысль» он опубликовал автобиографический по форме рассказ, озаглавленный «На заре туманной юности...». В нем Соловьев не без иронии вспоминал о романтических увлечениях своей молодости. Согласно этим воспоминаниям, начинающий философ поочередно влюблялся в каждую из своих многочисленных кузин, что, по его признанию, не мешало ему считать себя аскетом и «непримиримым врагом земного начала». Очевидно, что философ хотел посмеяться над собой, однако противники Соловьева поспешили воспользоваться его откровенностью. Так, митрополит Антоний (Храповицкий) в статье «Ложный пророк», посвященной обличению «еретических» воззрений Владимира Соловьева, в качестве одного из полемических аргументов указывал на сомнительный моральный облик философа. В частности, владыка Антоний утверждал, что Соловьев, пользуясь своей благочестивой внешностью, «распространял слухи о своем девстве, о невкушении им мяса и проч., но все это продолжалось до его первого падения и затем сменилось самым разнузданным препровождением времени», при этом философ якобы «продолжал поддерживать слухи о своей святости». По логике владыки Антония «разнузданная» жизнь привела Соловьева к полной потере стыда, почему он, «уже окончательно распустившийся», цинично поведал публике об интимной стороне своей жизни1.
Между тем в рассказе можно найти лишь отголоски реальных событий, которые послужили сорокалетнему философу материалом для аллегории. Герой рассказа, от имени которого ведется повествование, едет в поезде. В пути с ним происходят серьезные метаморфозы, его спутники — его собственные олицетворенные заблуждения. Происходящие события позволяют ему увидеть, что в его отношении к миру и к людям присутствует определенная ложь. Итог пути закономерен: герой не может ничего исправить, но может посмеяться над собой прежним. Такова фабула произведения. Кому-то, как владыке Антонию, могло показаться, что Соловьев просто делится своими воспоминаниями. На самом деле его рассказ — об откровении, которое смело его доморощенную философию и заставило увидеть божественное в том, что прежде казалось ему абсолютным злом.
Однако автобиографический элемент все-таки присутствует в рассказе. А именно — отношения героя с кузиной, на свидание с которой он, собственно говоря, и едет. Эта сюжетная линия, которая служит фоном для основного повествования, нашла отражение в переписке Владимира Соловьева, которая была опубликована вскоре после его смерти. Среди респондентов философа оказалась Екатерина Владимировна Селевина (в девичестве Романова) — двоюродная сестра Владимира Соловьева по материнской линии. Э. Л. Радлов — издатель эпистолярного наследия философа — отмечал, что Соловьев «придавал значение этим письмам и спрашивал, целы ли они»2. С. М. Лукьянову, который собирал биографические материалы о философе, Селевина рассказывала, что «Соловьев был озабочен судьбою своих писем к ней. Ее письма к нему он сжег; говорил, что следовало бы сжечь и его письма к ней; но потом он отказался от этой мысли и даже прямо разрешил их со временем опубликовать»3. Письма эти в самом деле уникальны. Без них юность Соловьева была бы для нас поистине «туманным» периодом в его биографии. Но значение их не столько в том, что они проливают свет на события, которые послужили основой рассказа. Для нас очень важно, что «Катя была для него восприемницей его рождающегося миросозерцания, ей поверял он свои сокровенные думы»4.
Переписка Владимира Соловьева с кузиной Катей началась, когда ему было 17 лет, а ей — 15. Он давал Кате дружеские советы, например такие: «...занимайся не слишком усидчиво и, ради Бога, не естественными науками: это знание само по себе совершенно пустое и призрачное. Достойны изучения сами по себе только человеческая природа и жизнь.»5 Соловьев на тот момент числился студентом физикоматематического факультета Московского университета, но его интерес к этой сфере человеческого знания был уже исчерпан, поэтому Кате он писал: «Я не удивляюсь, что тебя теперь всего более привлекают реальные науки: с этого и нужно начинать. Потом ты перейдешь к другому, потому что наука не может быть последнею целью жизни. Высшая, истинная цель жизни другая — нравственная (или религиозная), для которой и наука служит одним из средств»6. Даже в столь ранний период жизни Владимир Соловьев чувствовал и знал, что изнанка этого мира важнее и существеннее, чем его внешнее проявление. «Я того мнения, что изучать пустые призраки внешних явлений — еще глупее, чем жить пустыми призраками. Люди смотрят в микроскопы, режут несчастных животных, кипятят какую-нибудь дрянь в химических ретортах и воображают, что они изучают природу!»1
Интерес Соловьева к природе, к основе бытия был у него с самого начала не естественнонаучным, а философским. Предузнавание, предощущение истины, которую он только еще нащупывал, составляло содержание его размышлений. Это и ощущается в его письмах к Кате, которые были попыткой выразить то, что он видел еще не слишком ясно. При чтении их часто создается ощущение, что философ беседует с самим собой, что его респондент — его собственное отражение. Эта аберрация, конечно, мешала ему разглядеть реальную Катю. Между тем с ранних лет обстоятельства сложились для нее так, что она не имела своего дома, скиталась по родственникам, одно время даже жила в доме Соловьевых в Москве. Дело в том, что родители ее расстались, когда девочке было четыре года. И отец, и мать вступили во второй брак. Отец умер, когда ей исполнилось 12, мать тяжело заболела и умерла, когда ей было 16. Поневоле она должна была задуматься о смысле жизни, и жизнь обычного человека стала казаться ей пустой и бессмысленной. Драматизм жизненной ситуации, в которой она оказалась, сделал ее идеальной собеседницей для начинающего философа. Он увидел в ней единомышленницу, которая сознательно избрала тот же путь, что и он. Он ликовал: «Важно то, что ты отказалась от первой, обыкновенной дороги, то есть отказалась от того, что составляет всю жизнь для большинства людей — жизнь эгоизма, личных интересов, с глупым призраком счастья как последнею целью. Ты поняла, что это — ложь и зло, что эта жизнь есть смерть»8. Возможно, Катя ничего такого и не понимала, и подобное отношение к жизни было лишь следствием отчаяния и депрессии, однако Владимир искренне верил в ее желание изменить свою жизнь и ободрял ее: «Много всякой дряни предстоит тебе пройти; но ведь и другая дорога не розами усыпана, — везде одно страдание. Только по настоящей дороге это страдание искупает и ведет к истине, а страдание ложной жизни бесплодно и бессмысленно»9.
Двадцать лет спустя в уже упомянутом рассказе Соловьев сильно сместил акценты, когда излагал свое мировоззрение той поры. Его герой не знает ничего об истинном пути, не ведает об очищающем страдании и на путь аскезы никого не зовет: «Вообще учение о совершенной негодности всего существующего составляло главную тему моих разговоров с кузинами, которых у меня было несколько и в которых я поочередно влюблялся. Зло и ничтожество жизни были, конечно, известны мне отчасти и из собственного опыта. Я по опыту знал, что поцелуи кузин недолговечны и что лишний стакан вина причиняет головную боль. Но если жизненный мой опыт и не был еще достаточно богат, зато я очень много читал и еще больше думал, и вот годам к восемнадцати я додумался до твердого убеждения, что вся временная жизнь, как состоящая единственно только из зол и страданий, должна быть поскорее разрушена совершенно и окончательно. Едва успел я дойти до этого собственным умом, как мне пришлось убедиться, что не я один был такого мнения, но что оно весьма обстоятельно развивалось некоторыми знаменитыми немецкими философами. Впрочем, я был тогда отчасти славянофилом и потому, хотя допускал, что немцы могут упразднить вселенную в теории, но практическое исполнение этой задачи возлагал исключительно на русский народ, причем в душе я не сомневался, что первый сигнал к разрушению мира будет дан мною самим»10.
Для окончательного разоблачения своих заблуждений Соловьев вводит в повествование персонаж, с которым начинающий философ беседует в поезде. Этот человек — воплощение «революционных» настроений Соловьева той поры, его комичный двойник: «Это был провинциальный нигилист самого яркого оттенка. Он сразу признал меня за своего, — “по интеллигентному выражению лица”, как объяснил он впоследствии, а также, может быть, по длинным волосам и небрежному костюму. Мы открыли друг другу всю душу. Мы были вполне согласны в том, что существующее должно быть в скорейшем времени разрушено. Но он думал, что за этим разрушением наступит земной рай, где не будет бедных, глупых и порочных, а все человечество станет равномерно наслаждаться всеми физическими и умственными благами в бесчисленных фаланстерах, которые покроют земной шар, — я же с одушевлением утверждал, что его взгляд не достаточно радикален, что на самом деле не только земля, но и вся вселенная должна быть коренным образом уничтожена, что если после этого и будет какая-нибудь жизнь, то совершенно другая жизнь, не похожая на настоящую, чисто-трансцендентная. Он был радикал-натуралист, я был радикал-метафизик»11, — насмешливо заключает Соловьев.
Надо заметить, что подобный «нигилизм» составлял целую эпоху в жизни философа. Через пару лет после описываемых в рассказе событий Соловьев преподавал философию на Бестужевских курсах, где одна из курсисток оказалась любительницей рисовать карикатуры. Вл. С. Соловьева она нарисовала похоже, но необычайно длинным и необычайно тонким, и приписала ему следующие слова: «Какую чепуху городят эти господа! Тошно даже слушать. Будто есть что-нибудь реально сущее! Все в мире — фантасмагория. И мир — призрак; и я — призрак, и все мы — призраки!»12
Над этой увлекавшей его тогда идеей Соловьев посмеялся в рассказе отдельно. «Справедливость требует заметить, — вспоминал он, — что самоотрицание воли и необходимость уничтожить вселенную не составляли еще самой мудреной части того учения, которое я преподавал своим счастливым кузинам. ...Одна из них — голубоглазая, но пылкая Лиза, тогдашний предмет моей страсти — удостоилась в один прекрасный летний вечер быть посвященной в тайны трансцендентального идеализма. Гуляя с нею по аллеям запущенного деревенского парка, я не без увлечения, хотя сбиваясь несколько в выражениях, объяснил ей, что пространство, время и причинность суть лишь субъективные формы нашего познания и что весь мир, в этих формах существующий, есть только наше представление, то есть что его, в сущности, нет совсем»13. Однако Лиза оказалась легкомысленной особой, не слишком восприимчивой к философским рассуждениям. Отмахиваясь от его скучных рассуждений, она увлекала его какой-нибудь легкомысленной затеей, например, есть клубнику с грядки, и неокрепший философ покорно следовал за нею. Как сам он впоследствии признавался: «И я пошел собирать клубнику, хотя категорический императив, который простолюдины называют совестью, довольно ясно намекал мне, что это было с моей стороны не самоотрицанием, а совершенно наоборот — cамоутверждением воли. Но веселая Лиза так мило наклоняла над грядками свою белокурую головку, так кокетливо приподнимала платье, сверкая на солнце серебряными пряжками своих башмаков, что я решительно не имел никакого желания избавиться от этого приятного кошмара, и еще долго прождала меня в моей комнате недочитанная глава о синтетическом единстве трансцендентальной апперцепции»14.
Владимир Соловьев, как известно, писал стихи. Вот одно из его стихотворений на ту же тему:
Во-первых, объявлю вам, друг прелестный,
Что вот теперь уж более ста лет,
Как людям образованным известно,
Что времени с пространством вовсе нет;
Что это только призрак субъективный,
Иль попросту сказать один обман.
Сего не знать есть реализм наивный,
Приличный ныне лишь для обезьян.
А если так, то значит и разлука,
Как временно-пространственный мираж,
Равна нулю, а с ней тоска и скука,
И прочему всему оценка та ж.
Конечно, реальный Владимир Соловьев не был таким безусловным рабом немецкой философии. В советах, которые он давал Кате, видны его настоящие жизненные установки, те принципы, которыми он сам руководствовался в своей внутренней работе: «Прими только за общее правило: никогда не подчиняться книжному авторитету; поэтому, если ты прочтешь что-нибудь даже строго доказанное, но с чем твое внутреннее убеждение несогласно, то верь себе больше, чем всякой книге; потому что в серьезных вопросах внутреннее бездоказательное и бессознательное убеждение есть голос Божий»15. Написал бы он что-то подобное, если бы сам не слышал этого Божьего гласа?
Безусловно, для Владимира Соловьева (а вместе с ним и для нас) было большой удачей, что в лице своей кузины Кати ему посчастливилось найти собеседника, который с пониманием относился к важным для него вещам. Именно благодаря этому мы теперь можем узнать его самые сокровенные мысли. «Меня очень радует, — пишет он Кате, — твое серьезное отношение к величайшему (по-моему единственному) вопросу жизни и знания — вопросу о религии. Относительно этого твое теперешнее заблуждение (как и почти всех — заблуждение неизбежное сначала) состоит в том, что ты смешиваешь веру вообще с одним из ее видов — с верой детской, слепой, бессознательной, и думаешь, что другой веры нет. Конечно, не много нужно ума, чтобы отвергнуть эту веру — я ее отрицал в 13 лет — конечно, человек, сколько-нибудь рассуждающий, уже не может верить так, как он верил, будучи ребенком; и если это человек с умом поверхностным или ограниченным, то он так и останавливается на этом легком отрицании своей детской веры в полной уверенности, что сказки его нянек или школьные фразы катехизиса составляют настоящую религию, настоящее христианство»16. Соловьев особо отмечает: разумная вера нужна именно теперь, когда появилась наука. Если в прежние времена можно было всю жизнь до старости верить слепо, по-детски, то теперь необходимо разумно сформулировать предмет своей веры, чтобы научное объяснение мира не пошатнуло ее. Мы видим, как отсюда вырастают все дальнейшие идеи Соловьева: борьба против позитивизма (первая работа философа), указание положительных целей религиозного делания (учение о богочеловечестве), призыв к практическому воплощению религиозных истин (проповедь о необходимости воссоединения Церквей).
Чтобы поддержать Катю, не дать ей отступиться от веры, он рассказывает ей о собственном духовном кризисе, о своих блужданиях вне христианства: «В детстве всякий принимает уже готовые верования и верит, конечно, на слово; но и для такой веры необходимо если не понимание, то некоторое представление о предметах веры, и действительно ребенок составляет себе такие представления, более или менее нелепые, свыкается с ними и считает их неприкосновенною святынею. Многие (в былые времена почти все) с этими представлениями остаются навсегда и живут хорошими людьми. У других ум с годами растет и перерастает их детские верования. Сначала со страхом, потом с самодовольством одно верование за другим подвергается сомнению, критикуется полудетским рассудком, оказывается нелепым и отвергается. Что касается до меня лично, то я в этом возрасте не только сомневался и отрицал свои прежние верования, но и ненавидел их ото всего сердца, — совестно вспоминать, какие глупейшие кощунства я тогда говорил и делал. К концу истории все верования отвергнуты и юный ум свободен вполне. Многие останавливаются на такой свободе ото всякого убеждения и даже очень ею гордятся; впоследствии они обыкновенно становятся практическими людьми или мошенниками. Те же, кто не способен к такой участи, стараются создать новую систему убеждений на место разрушенной, заменить верования разумным знанием. И вот они обращаются к положительной науке, но эта наука не может основать разумных убеждений, потому что она знает только внешнюю действительность, одни факты и больше ничего; истинный смысл факта, разумное объяснение природы и человека — этого наука дать отказывается. Некоторые обращаются к отвлеченной философии, но философия остается в области логической мысли, действительность, жизнь для нее не существует; а настоящее убеждение человека должно ведь быть не отвлеченным, а живым, не в одном рассудке, но во всем его духовном существе, должно господствовать над его жизнию и заключать в себе не один идеальный мир понятий, но и мир действительный. Такого живого убеждения ни наука, ни философия дать не могут. Где же искать его? И вот приходит страшное, отчаянное состояние — мне и теперь вспомнить тяжело — совершенная пустота внутри, тьма, смерть при жизни. Все, что может дать отвлеченный разум, изведано и оказалось негодным, и сам разум разумно доказал свою несостоятельность. Но этот мрак есть начало света; потому что когда человек принужден сказать: я ничто — он этим самым говорит: Бог есть всё. И тут он познает Бога — не детское представление прежнего времени и не отвлеченное понятие рассудка, а Бога действительного и живого, который «недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем». Тогда-то все вопросы, которые разум ставил, но не мог разрешить, находят себе ответ в глубоких тайнах христианского учения, и человек верует во Христа уже не потому только, что в Нем получают свое удовлетворение все потребности сердца, но и потому, что им разрешаются все задачи ума, все требования знания. Вера слуха заменяется верой разума; как самаряне в Евангелии: «...уже не по твоим речам веруем, но сами поняли и узнали, что он истинный спаситель мира, Христос»17.
Собственно говоря, это и есть подлинная, не приправленная художественным вымыслом история, произошедшая с Владимиром Соловьевым «на заре туманной юности». Это не история внешних событий и в ней нет ничего комичного. Как не было ничего забавного в его будущих проектах, в его стремлении изменить мир. Соловьев был из тех незаменимых для развития человечества людей, чье слово не расходится с делом. Он, действительно, во всем поступал сообразно со своей верой. Религия для Соловьева — это практика. Абстрактные размышления и бесконечное плетение словес могут лишь поколебать воздух и больше не производят никакого действия ни в человеке, ни в мире. Нужно жить в соответствии со своими убеждениями. Вера должна приносить реальный плод. Каждый вопрос должен иметь жизненное основание, не быть абстрактным. В этом, с его точки зрения, ценность философского размышления.
«С тех пор, как я стал что-нибудь смыслить, — писал он Кате, — я сознавал, что существующий порядок вещей (преимущественно же порядок общественный и гражданский, отношения людей между собою, определяющие всю человеческую жизнь), что этот существующий порядок далеко не таков, каким должен быть, что он основан не на разуме и праве, а напротив, по большей части на бессмысленной случайности, слепой силе, эгоизме и насильственном подчинении. Люди практические хотя и видят неудовлетворительность этого порядка (не видеть ее нельзя), но находят возможным и удобным применяться к нему, найти в нем свое теплое местечко, и жить, как живется. Другие люди, не будучи в состоянии примириться с мировым злом, но считая его однако необходимым и вечным, должны удовольствоваться бессильным презрением к существующей действительности, или же проклинать ее a la лорд Байрон. Это очень благородные люди, но от их благородства никому ни тепло, ни холодно. Я не принадлежу ни к тому, ни к другому разряду. Сознательное убеждение в том, что настоящее состояние человечества не такого, каким должно быть, значит для меня, что оно должно быть изменено, преобразовано. Я не признаю существующего зла вечным... Сознавая необходимость преобразования, я тем самым обязываюсь посвятить всю свою жизнь и все свои силы на то, чтобы это преобразование было действительно совершено»18.
Ни с кем, кроме Кати, Соловьев не мог быть настолько откровенным, потому что к этому моменту эпистолярный роман молодых людей перерос в нечто большее. Широко известна история семейной жизни Федора Михайловича Достоевского и его жены Анны Григорьевны. Смог бы писатель в одиночку преодолеть свои многочисленные проблемы, безденежье, болезнь, если бы не поддержка этой преданной, заботливой женщины, которая посвятила ему свою жизнь? Философ также нуждался в поддержке близкого человека, и он надеялся, что нашел ее в лице Кати Романовой. «Я люблю тебя, как только могу любить человеческое существо, а может быть, и сильнее, сильнее, чем должен, — писал он ей. — Для большинства людей этим кончается все дело; любовь и то, что за нею должно следовать: семейное счастие — составляет главный интерес их жизни. Но я имею совершенно другую задачу, которая с каждым днем становится для меня все яснее, определеннее и строже. Ее посильному исполнению посвящу я свою жизнь. Поэтому личные и семейные отношения всегда будут занимать второстепенное место в моем существовании. Это-то только я и хотел сказать, когда написал, что не могу отдать тебе себя всего. .хотя та задача, о которой я говорю, такого рода, что не может быть ни с кем разделена, но, конечно, участие любящей женщины должно поддерживать и укреплять силы в тех тяжелых трудах и жизненной борьбе, с которыми необходимо связано разрешение всякой серьезной задачи. Эта помощь незаменимая, и, конечно, только от тебя одной могу я ее принять»19.
Спустя годы Соловьев осознал, что его отношение к Кате было лишено того человеческого тепла и нежности, в которых она больше всего нуждалась. В этой любви на расстоянии не было самого главного — живой личности, подлинного чувства. Через 20 лет Соловьев не мог вспоминать об этом без иронии. «Конечно, — рассказывал он, — я допускал и элемент нежности, но он должен был составлять только тень картины, главное же дело было совсем в другом. Я хотел видеться с Ольгой (так зовут кузину в рассказе. — И. Л.) для того, чтобы “поставить наши отношения на почву самоотрицания воли”. Поистине таково было мое намерение. Я должен был сказать ей приблизительно следующее: — “Милая Ольга, я люблю тебя и рад, что ты любишь меня также. Но я знаю, и ты должна это узнать, что вся жизнь, а, следовательно, и цвет жизни — любовь, есть только призрак и обман. Мы безумно стремимся к счастию, но в действительности находим одно только страдание. Наша воля вечно нас обманывает, заставляя слепо гоняться, как за высшим благом и блаженством, за такими предметами, которые сами по себе ничего не стоят; она-то и есть первое и величайшее зло, от которого нам нужно освободиться. Для этого мы должны отвергнуть все ее внушения, подавить все наши личные стремления, отречься от всех наших желаний и надежд. Если ты, как я уверен, способна понять меня, то мы можем вместе совершить жизненный путь. Но знай, что ты никогда не найдешь со мною так называемого семейного счастия, выдуманного тупоумными филистерами. Я познал истину, и моя цель — осуществить ее для других: обличить и разрушить всемирный обман. Ты понимаешь, что такая задача не имеет ничего общего с удовольствием. Я могу обещать тебе только тяжелую борьбу и страдание вдвоем”. Вот что я намеревался сказать хорошенькой семнадцатилетней Ольге».
Катя Романова оказалась очень самоотверженной девушкой. Она смирилась с подобной перспективой и согласилась разделить путь юного философа, поскольку была увлечена его идеями и хотела знать как можно больше о его видении мира. Благодаря ее неподдельному интересу к духовным вопросам современные исследователи имеют возможность ознакомиться с тем, что не было предназначено для публики. Отвечая на вопрос Кати, в чем он видит свою задачу, Соловьев пишет: «Я знаю, что всякое преобразование должно делаться изнутри — из ума и сердца человеческого. Люди управляются своими убеждениями, следовательно, нужно действовать на убеждения, убедить людей в истине»20. Философ нисколько не покривил душой: вся его жизнь и все его творчество были попыткой убедить людей в истине. Но в какой истине? Соловьев четко отвечает и на этот вопрос: «Сама истина, т.е. христианство (разумеется, не то мнимое христианство, которое мы все знаем по разным катехизисам), — истина сама по себе ясна в моем сознании, но вопрос в том, как ввести ее во всеобщее сознание, для которого она в настоящее время есть какой-то monstrum — нечто совершенно чуждое и непонятное. Спрашивается прежде всего: от чего происходит это отчуждение современного ума от христианства? Обвинять во всем человеческое заблуждение или невежество — было бы очень легко, но и столь же легкомысленно. Причина глубже. Дело в том, что христианство, хотя безусловно-истинное само по себе, имело до сих пор вследствие исторических условий лишь весьма одностороннее и недостаточное выражение. За исключением только избранных умов, для большинства христианство было лишь делом простой полусознательной веры и неопределенного чувства, но ничего не говорило разуму, не входило в разум. Вследствие этого оно было заключено в несоответствующую ему, неразумную форму и загромождено всяким бессмысленным хламом. И разум человеческий, когда вырос и вырвался на волю из средневековых монастырей, с полным правом восстал против такого христианства и отверг его. Но теперь, когда разрушено христианство в ложной форме, пришло время восстановить истинное. Предстоит задача: ввести вечное содержание христианства в новую соответствующую ему, т.е. разумную безусловно форму. Для этого нужно воспользоваться всем, что выработано за последние века умом человеческим: нужно усвоить себе всеобщие результаты научного развития, нужно изучить всю философию. Это я делаю и еще буду делать. Теперь мне ясно, как дважды два четыре, что все великое развитие западной философии и науки, по-видимому, равнодушное и часто враждебное к христианству, в действительности только вырабатывало для христианства новую, достойную его форму. И когда христианство действительно будет выражено в этой новой форме, явится в своем истинном виде, тогда само собой исчезнет то, что препятствует ему до сих пор войти во всеобщее сознание, именно его мнимое противоречие с разумом. Когда оно явится, как свет и разум, то необходимо сделается всеобщим убеждением, — по крайней мере, убеждением всех тех, у кого есть что-нибудь в голове и в сердце. Когда же христианство станет действительным убеждением, т.е. таким, по которому люди будут жить, осуществлять его в действительности, тогда очевидно все изменится. Представь себе, что некоторая хотя бы небольшая часть человечества вполне серьезно, с сознательным и сильным убеждением будет исполнять в действительности учение безусловной любви и самопожертвования, — долго ли устоит неправда и зло в мире! Но до этого практического осуществления христианства в жизни пока еще очень далеко. Теперь нужно еще сильно поработать над теоретической стороной, над богословским вероучением. Это мое настоящее дело»21.
Удивительно, когда молодой человек так четко осознает свои задачи. Еще более удивительно, когда в течение всей своей жизни он упорно стремится осуществить те цели, которые когда-то, «на заре туманной юности», поставил перед собой. Даже при поверхностном знакомстве с биографией Владимира Соловьева становится ясно, насколько искренним он был с Катей, потому что вся его жизнь была реализацией именно этого плана, изложенного им в 19 лет своей юной невесте. При этом он не был мечтателем, его практичности и целеустремленности могли бы позавидовать многие. «Ты понимаешь, мой друг, что с такими убеждениями и намерениями я должен казаться совсем сумасшедшим и мне поневоле приходится быть сдержанным»,22 — пишет он ей. В другом письме он довольно трезво замечает: «Все, что ты пишешь о моих целях, совершенно справедливо. Только ты напрасно воображала, что я мечтаю о каком-то мгновенном возрождении человечества. Живого плода своих будущих трудов я во всяком случае не увижу. Для себя лично ничего хорошего не предвижу. Это еще самое лучшее, что меня сочтут за сумасшедшего. Я, впрочем, об этом очень мало думаю. Рано или поздно успех несомненен — этого достаточно. Мы должны исполнять свою обязанность — вот и все, а определять времена и сроки — не наше дело. Иногда далекое представляется уму близким: тем лучше, это утешает»23.
Похоже, что Катя не испугалась перспективы соединить свою судьбу с таким странным человеком, хотя недостатка в кавалерах у нее не было. «Она была красива, с темными загадочными глазами и черными волосами», — вспоминал племянник Владимира Соловьева — Сергей. И добавляет: «Красота ее была действительно жуткая и губительная»24. Письма Соловьева к Кате обрываются на мажорной ноте, он ждет встречи с ней, он ее любит и она, судя по всему, отвечает ему взаимностью. Так что же разлучило молодых людей, почему не сложились их отношения? Да просто за время их заочного эпистолярного романа оба изменились до неузнаваемости. В рассказе герой оказывается обескуражен переменой в облике своей возлюбленной и при встрече с удивлением замечает: «Она была вовсе не похожа на ту нежную, полувоздушную девочку, которая осталась в моей памяти от нашего последнего свидания в деревне, когда она выходила из купальни в голубом ситцевом платье и с небрежно закинутою за спину темною косой. Теперь это была совсем взрослая и нарядная девица с развязными манерами». Эта девица недрогнувшим голосом говорит герою прямо и откровенно: «Ты слишком умен и идеален для меня, и я недостаточно тебя люблю, чтобы разделять твои взгляды и навсегда связать свою жизнь с твоею. Вот ты отвергаешь всякое удовольствие, а я одни только удовольствия и понимаю. Я буду всегда любить тебя, как родного. Будем друзьями». «Спешу заметить, — добавляет Соловьев, — что это был мой последний опыт обращения молодых девиц на путь самоотрицания воли. В тот же вечер я уехал из Харькова, даже не простившись с новым своим приятелем-радикалом»25.
Иную, более правдоподобную версию того, что же послужило причиной разрыва молодых людей, приводит племянник Владимира Соловьева: «Со слов старой бонны Соловьевых Марьи Павловны Загребиной... я знаю следующее. Жених и невеста поехали куда-то на санях морозной зимней ночью. По дороге Катя пожелала зайти на минуту в один дом, где собралось большое и веселое общество. Она попросила Владимира подождать ее в санях. Прошел час, другой. Владимир смотрел на освещенные окна дома и замерзал. Наконец, велел извозчику ехать обратно. Жизнью была поставлена точка»26. Возможно, все произошло именно так, и Катя не говорила никаких циничных слов. Возможно, она все «сказала» своим поступком. И все же для Владимира Соловьева этот трехлетний интеллектуальный роман был настоящим подарком судьбы потому, что «никому не мог поверить он свои тайные мечты, планы., только легкомысленной и мятежной Кате, оставившей его мерзнуть в санях в декабрьскую петербургскую ночь»27.
Примечания
1 Цит. по: Никон (Рклицкий), архиеп. Митрополит Антоний (Храповицкий) и его время: 1863‒1936. Кн. 1. Нижний Новгород, 2003. С. 139.
2 Письма Владимира Сергеевича Соловьева / Под ред. Э. Л. Радлова. Т. III. СПб., 1911. С. 56.
3 Лукьянов С. М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: материалы к биографии. Кн. 1. Пг., 1916. С. 274.
4 Соловьев С. М. Владимир Соловьев: Жизнь и творческая эволюция. М., 1997. С. 64.
5 Письма. Т. III. С. 57.
6 Там же. С. 62.
7 Там же. С. 64.
8 Там же. С. 60.
9 Там же. С. 61.
10 Соловьев В. С. «На заре туманной юности.» // Письма В. С. Соловьева / Под ред. Э. Л. Радлова. Т. III. СПб., 1911. С. 285‒286.
11 Там же. С. 294.
12 Вл. С. Соловьев: pro et contra. Т. 1. СПб., 2000. С. 91.
13 Соловьев В. С. «На заре туманной юности…» С. 286.
14 Там же. С. 287.
15 Письма. С. 59.
16 Там же. С. 73.
17 Там же. С. 74‒75.
18 Там же. С. 88.
19 Там же. С. 82.
20 Там же. С. 88.
21 Там же. С. 88‒89.
22 Там же. С. 89‒90.
23 Там же. С. 93‒94.
24 Соловьев С. М. Владимир Соловьев: Жизнь и творческая эволюция. М., 1997. С. 55.
25 Соловьев В. С. «На заре туманной юности…» С. 297‒298.
26 Соловьев С. М. Владимир Соловьев: Жизнь и творческая эволюция. С. 64.
27 Там же. С. 65.
[13]Кандидат исторических наук, Институт российской истории РАН.